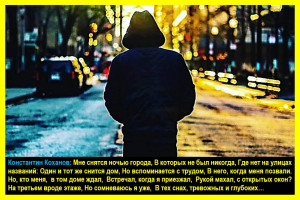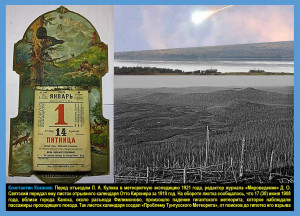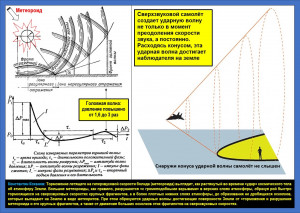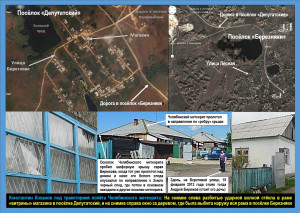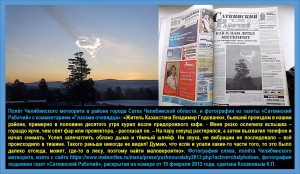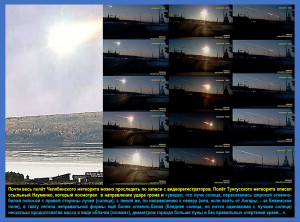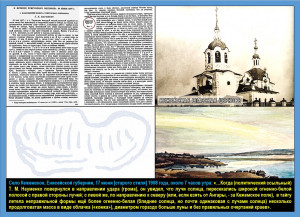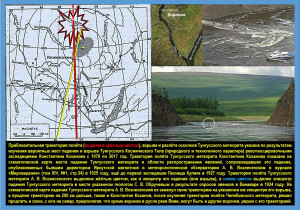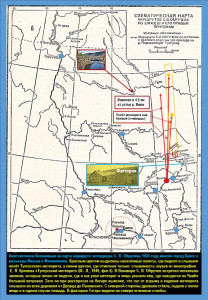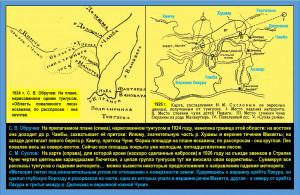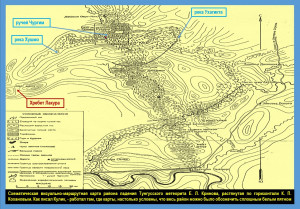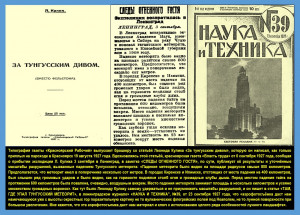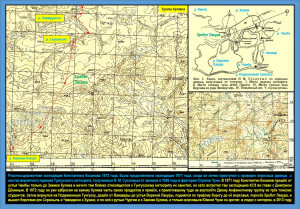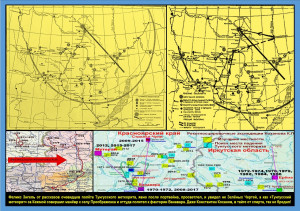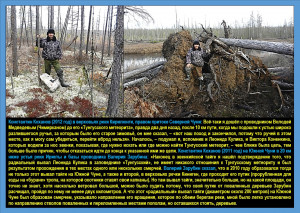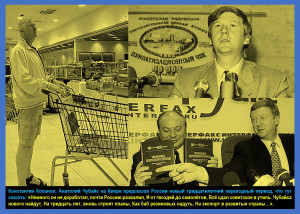Константин Коханов: Тунгусский метеорит – не круглая дата. После его падения и взрыва 30 июня 1908 года, прошло только 114 лет.
Падение на Землю крупного метеорита, событие довольно редкое и никогда не обходится без пристального внимания не столько учёных, сколько падкой на сенсации прессы и с больным воображением граждан, которые подобные события всегда связывают с грозными предзнаменованиями Страшного Суда.
Но ввиду малонаселённости территории Восточной Сибири сам полёт Тунгусского метеорита мало кто непосредственно видел, связанные с его полётом звуковые явления, отметило больше людей, но само его падение или заключительный воздушный взрыв, не видел никто.
По сути, в 1908 году, дальше описания и обсуждения этого события в местной прессе, о нём в России больше нигде не сообщалось, так что даже в Енисейской губернии, о нём вскоре уже никто не вспоминал.
А начало изучения падения Тунгусского метеорита, началось с простого листочка отрывного календаря, с небольшой заметки на его обратной стороне:
«Перед отъездом Леонида Кулика в метеоритную экспедицию в сентябре 1921 года, редактор журнала «Мироведение» Д. О. Святский, передал Кулику листок отрывного календаря Отто Кирхнера за 1910 год. На обороте листка сообщалось о падении 17(30) июня 1908 года близ города Канска, около разъезда Филимоново, гигантского метеорита, которое наблюдали пассажиры проходящего поезда».
1. 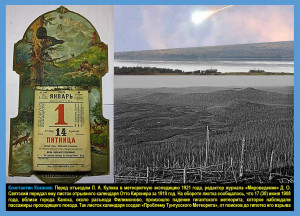
Единственное, что тогда Леонид Кулик выяснил, что этот метеорит падал, но не у разъезда Филимоново, а значительно дальше от этого места, но никто не знал, где точно, и последним местом, где полёт Тунгусского метеорита действительно наблюдался, было ангарское село Кежма.
К тому же эти наблюдения были действительно достоверно датированы, два из них 1908 годом (в рапорте уездного исправника Солонины Енисейскому губернатору и в статье газеты «Красноярец»), а также подтверждались в письме самого очевидца, опубликованном в журнале «Мироведение» в 1941 году.
В архивах А. В. Вознесенского, директора Иркутской обсерватории, сохранилась копия рапорта Енисейского уездного исправника:
«Господину Енисейскому Губернатору. От 19 июня 1908г. за №2979. 17-го минувшего июня, в 7 часов утра над селом Кежемским (На Ангаре) с юга по направлению к северу, при ясной погоде, высоко в небесном пространстве пролетел громадных размеров аэролит, который разрядившись, произвел ряд звуков, подобных выстрелам из орудий, а затем исчез. Об этом доношу Вашему Превосходительству. Уездный исправник Солонина. Верно: Делопроизводитель (подпись)».
Что конкретно было указано в рапорте енисейского исправника:
Дата, время суток, погода, высота полёта метеорита, его размер, который произвёл ряд звуков, подобных выстрелам из орудий и потом просто исчез.
Копия этого рапорта делопроизводителем губернатора была направлена Красноярскому подотделу Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества для сведения.Оттуда она была переслана в Иркутскую обсерваторию, а последней…, вместе с другими наблюдениями была передана, после обработки, в Метеоритный отдел Академии Наук
(Е. Л. Кринов «Тунгусский метеорит», М.Л., 1949, стр.51).
Дополняет это сообщение, опубликованная в газете «Красноярец» в №153 от 13 июля 1908 года, в разделе «По губернии» (стр.1-2) статья собственного корреспондента П-хова:
«С. Кежемское. 17-го, в здешнем районе замечено было необычайное атмосферическое явление. В 7 час. 43 мин. утра пронесся шум как бы от сильного ветра. Непосредственно за этим раздался страшный удар, сопровождаемый подземным толчком, от которого буквально сотряслись здания, причем получилось впечатление, как будто бы по зданию был сделан
сильный удар каким-нибудь огромным- бревном или тяжелым камнем.
За первым ударом последовал второй, такой же силы и третий. Затем – промежуток времени между первым и третьим ударами сопровождался необыкновенным подземным гулом, похожим на звук от рельс, по которым будто бы проходил единовременно десяток поездов.
А потом в течение 5-6 минут происходила точь-в-точь артиллерийская стрельба: последовало около 50-60 ударов через короткие и почти одинаковые промежутки времени. Постепенно удары становились к концу слабее.
Через 1,5-2-минутный перерыв после окончания сплошной «пальбы» раздалось еще один за другим шесть ударов наподобие отдаленных пушечных выстрелов, но все же отчетливо слышных и ощущаемых сотрясением земли.
Небо на первый взгляд было совершенно чисто. Ни ветра, ни облаков не было. Но при внимательном наблюдении, на севере, т.е. там, где, казалось, раздавались удары, – на горизонте ясно замечалось нечто, похожее, на облако пепельного вида, которое, постепенно уменьшаясь, делалось более прозрачным и к 2 – 3 часам дня совершенно исчезло.
Это же явление, по полученным сведениям, наблюдалось и в окрестных селениях Ангары на расстоянии 300 верст (вниз и вверх) с одинаковой силой. Были случаи, что от сотрясения домов разбивались стекла в створчатых рамах. Насколько были сильны первые удары, можно судить по тому, что в некоторых случаях падали с ног лошади и люди.
Как рассказывают очевидцы, перед тем как начали раздаваться первые удары, небо прорезало с юга на север со склонностью к северо-востоку какое-то небесное тело огненного вида, но за быстротою (а главное – неожиданностью) полета ни величину, ни форму его усмотреть не могли.
Но зато многие в разных селениях отлично видели, что с прикосновением летевшего предмета к горизонту, в том месте, где впоследствии было замечено указываемое выше, своеобразное облако, но гораздо ниже расположения последнего – на уровне лесных вершин как бы вспыхнуло огромное пламя, раздвоившее собою небо.
Сияние было так сильно, что отражалось в комнатах, окна которых обращены к северу, что и наблюдали, между прочим, сторожа волостного правления. Сияние продолжалось, по-видимому, не менее минуты, так как его заметили многие бывшие на пашнях крестьяне. Как только «пламя» исчезло, сейчас же раздались удары.
При зловещей тишине в воздухе чувствовалось, что в природе происходит какое-то необычайное явление. На расположенном против села острове лошади и коровы начали кричать и бегать из края в край.
Получилось впечатление, что вот-вот земля разверзнется и все провалится в бездну. Раздавались откуда-то страшные удары, сотрясая воздух, и невидимость источника внушала какой-то суеверный страх. Буквально брала оторопь. Не обошлось и без курьёзов.
Два крестьянина были на мельнице в 22 верстах от села и в момент первого удара несли мешки с мукою и оба упали. Когда же поднялись и, охая и ахая, прослушали всю «канонаду», то решили, что «Кежму разбил японец».
«Ну, пойдём, паря по «матёрой» (противоположный берег реки от села) и «буче» (если) встретим, как японец на пароходе побежит, то убежим в лес, а не встретим – то с «матёрой» поглядим: «буче» церква цела, то пойдём в деревню, а развончана – так воротимся и упловём на заимку», – так докладывал один из крестьян.
А вот второй случай: крестьянин сидит в избе и со страхом слушает неведомые ему звуки («то ли гром, то ли стреляют»). Выбежал из соседней избы брат и кричит в окно сидевшему: «Ванька, что сидишь?! Слышишь, что японцы деревню разбивают!» Сидевший вскакивает и начинает метаться по избе, как ужаленный, а затем кричит бабе: «лезь в подполье, там, где-то есть десятка» – а то достанется японцам».
Вообще везде при первых ударах вспомнился всем японец: очевидно, дорого он достался матушке Руси и Сибири – в особенности».
В заключении, напуганные старушки обошли село, собрали «малую толику» и попросили батюшку отслужить молебен».
Е. Л. Кринов в своей монографии «Тунгусский метеорит» (М-Л., 1949, стр.9-11) опускает, как не заслуживающие внимания, рассказы крестьян, хотя в них содержится не менее важная информация, чем та, с которой он посчитал нужном, поделиться с читателями:
Что-что, а крестьяне слышали артиллерийские выстрелы, и перепутать их просто с какими-то сильными ударами или обычным землетрясением никак не могли. Выражение «то ли гром, то ли стреляют» и когда несли мешки с мукой и оба «при первом ударе упали», не следует воспринимать, что от страха, а отнести к резкому содроганию после «взрыва» земли.
Статья Т. Н. Науменко «Наблюдение полёта Тунгусского метеорита», опубликованная в журнале «Метеоритика» (1941, выпуск 2, стр.119-120):
«29 мая 1907 г. В г. Чернигове выездной сессией киевской судебной палаты автор был приговорён к бессрочной ссылке в Сибирь за участие в революционном движении 1905-1906 гг., и 24 января 1908 г. Прибыл в село Кежму на Ангаре, бывш. Енисейской губ. (ныне Красноярского края).
В том же 1908 г. В Кежме сельское общество начало строить хлебозапасный магазин; автор и ещё один товарищ по ссылке, Франц Грабовский, нанялись на эту работу в помощь плотникам.
Так как по-настоящему плотничьей работы мы ещё не знали, то нам давали, главным образом, строгать доски и пр.
И вот, автор точно не помнит, 17 или 18 июня 1908 г., около 8 час. утра (Примечание редактора: удар метеорита наблюдался 17 июня [ст. ст.] 1908 г., около 7 час. утра), – он с тов. Грабовским строгал «двуручником» доски; день был на редкость солнечный, ясный, настолько ясный, что мы не заметили ни одного облачка на горизонте, ветер не шевелился, была полнейшая тишина.
Наложили мы с тов. Грабовским штук десять досок одна на другую и, севши на них верхом (автор сидел спиной к Ангаре, к югу, а Грабовский – лицом к нему), строгаем себе и снимаем доски одну за другой. И вот, около 8 часов утра (смотри выше примечание редактора) [солнце поднялось уже довольно высоко в направлении на юго-восток от нас], вдруг послышался отдаленнейший, еле слышный звук грома; это заставило нас невольно оглянуться во все стороны; звук послышался, как будто из-за р. Ангары, так что автору пришлось круто развернуться в эту сторону, но так как до самого горизонта на небе нигде не было видно ни одной тучки, то мы полагая, что гроза где-то ещё далеко, снова принялись строгать доски; но звук грома начал так быстро усиливаться, что мы не успели строгнуть больше трёх, возможно четырёх, раз, – пришлось бросить свой рубанок и встать с досок.
Так как звук грома нам казался уже чем-то необыкновенным, поскольку никаких туч на горизонте не было видно; при этом в тот момент, когда автор под быстро усиливающийся звук грома поднимался с досок, раздался первый, сравнительно небольшой удар; это заставило быстро повернуться полуоборотом направо, т. е. к юго-востоку и поднять глаза несколько вверх в направлении послышавшегося удара грома, на солнце; это несколько мешало наблюдать явление, ставшее видимым для глаза уже тотчас же после первого удара грома, а именно: когда автор повернулся в направлении удара, он увидел, что лучи солнца, пересекались широкой огненно-белой полосой с правой стороны лучей; с левой же, по направлению к северу (или, если взять от Ангары, – за Кежемское поле), в тайгу летела неправильной формы ещё более огненно-белая (бледнее солнца, но почти одинаковая с лучами солнца) несколько продолговатая масса в виде облачка («комка»), диаметром гораздо больше луны и без правильных очертаний краев.
При этом следует сказать, что после первого несильного удара, примерно через две-три секунды, а то и больше (часов у нас не было, но интервал был порядочный), раздался второй, довольно сильный удар грома; если сравнивать его с ударом грома, то это был самый сильный, какие бывают во время грозы.
После второго удара «комка» уже не стало видно, но хвост, вернее полоска, уже вся очутилась с левой стороны лучей солнца, перерезав их, и стала во много раз шире, чем была с правой стороны от него; и тут же через более короткий промежуток времени, чем было между первым и вторым ударами, последовал третий удар грома, и такой сильный (как будто бы еще с несколькими, внутри него слившимися ударами, даже с треском), что вся земля задрожала и по тайге разнеслось такое эхо (какой-то оглушительный сплошной гул), что казалось, что гул охватил всю тайгу необъятной Сибири.
Нужно отметить, что плотники, работавшие на постройке указанного амбара, после первого и второго ударов в полном недоумении крестились; их было человек шесть-семь, все – местные крестьяне (почти уже все тогда стариками были); а когда раздался третий удар, так плотники попадали с постройки на щепки навзничь (было невысоко, метра полтора) и некоторые были так ошеломлены и совсем перепуганы, что автору вместе с Грабовским приходилось приводить их в чувство и успокаивать, говоря, что всё уже прошло; а они ожидали ещё продолжения и говорили, что вот уже наверное пришёл конец свету и будет «страшный суд» и т. д. Наших успокоений они и слушать не хотели – побросали работу; мы, нужно признаться, были тоже в полном недоумении и вместе с ними пошли в село (это было за селом, на отлёте, около полукилометра); в селе ещё было около 30 политических ссыльных; среди них были люди с высшим образованием; поэтому мы считали, что от них мы получим исчерпывающее объяснение данного явления.
Когда мы пришли в село, то увидели на улицах целые толпы местных жителей, с ужасом говоривших об этом явлении, а также – и наших товарищей ссыльных; последние в момент полёта метеорита находились в помещениях, а некоторые даже ещё спали, и их разбудили эти необыкновенной силы удары грома, от которых звенели стекла, а в некоторых домах даже треснули печки и попадала с полок кухонная посуда.
Наши товарищи в своих объяснениях строили предположение о падении на землю редкого и необыкновенного по величине метеорита; они определяли эту величину по необыкновенной силе ударов грома, ибо обычно, особенно, при наблюдении таких полётов вечером или ночью, нам виден только огненный блеск головки и довольно длинного от неё, сравнительно узкого хвоста, в данном случае хвост был, по сравнению с обычной шириной, чрезмерно широким. И благодаря такой ширине, он казался значительно короче, чем это приходилось нам видеть в ночное время; а возможно – это объясняется ярким солнечным светом того дня и моментом самого полёта, что и укорачивало отсвечивание позади хвоста метеорита».
Нужно также отметить, что село Кежма было большим, с населением больше 1000 человек, хотя точное количество, сколько в 1908 году проживало там человек, Константину Коханову установить не удалось, но во всяком случае, в другие годы кое-какие данные, оказались в наличии и некоторые даже ему удалось перепроверить по ссылкам и дополнить:
Численность населения села Кежма (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, СПб, 1895, том 28, стр.891): При устье реки, на правом берегу р. Верхней Тунгуски, расположено по обеим сторонам р. К. (реки Кежма) село Кежемское с 175 домами и 900 жителями, сельская школа, запасный хлебный магазин.
Всесоюзная перепись населения 1939 года: в Кежме проживало 2921 человек.
По другим источникам без достоверных ссылок на документы (Википедия): В 1878 году в Кежме был 151 двор, православная церковь, часовня, волостное правление, хлебозавод-магазин, две лавки, пороховой подвал, анатомическая изба, два оптовых винных склада, путейный дом. К 1884 году в Кежме уже было 1119 жителей, из них 55 грамотных.
Последним местом, где наблюдались сильные звуковые удары, а также тряслась земля и была отмечена яркая вспышка на северной стороне неба, связанным с полётом Тунгусского метеорита, без наблюдения самого его полёта, была фактория Ванавара.
Ванавара в 1908 году:
«…В 1899 году купцы («тунгусники») ангарских деревень Аксёново, Мозговая и других провели вторую дорогу на Подкаменную от Мозговой к устью реки Тэтэрэ, где Харлампиевы (Сизых) из деревни Селенгино основали факторию Тетеря.
В начале ХХ века фактория Тетеря состояла из двух практически одинакового типа изб, одна из которых принадлежала Ивану Харлампиевичу Сизых, а вторая – компаньонам И.В. Колмакову и Семёну Ивановичу Привалихину.
Мозговские и, главным образом, кежемские («тунгусники») Привалихин, Косолапов и другие в 1899 году спустились по реке Подкаменной на 23-25 вёрст и с версту ниже устья реки Ванаварки основали факторию Ванавара – «в 23 приблизительно верстах вниз по течению от Тетери и, стало быть, в 183 верстах от деревни Верхне-Кежемской, откуда в скором времени стали наезжать туда жители этой деревни Капит. Анд. Брюханов, Павел Андр. Брюханов, Роман (?) Бор. Семёнов и два-три других».
В 1907-1909 годах на р. Подкаменную Тунгуску был командирован податный инспектор 1 участка Енисейского уезда Иван Покровский, который застал на фактории Ванавара (Анавар, Анаварь, Вано-вара, Ванавары) уже 7 избушек.
Они принадлежали: «две – Ром. (?) Борис. Семёнову, по одной – Павлу Андр. Брюханову, Пав. Еф. Косолапову, Еф. Еф. Косолапову, Афиногену Ив. Кокорину и Ив. Акинф. Шарыпову…».
Источник: Т.А. Власенко «История появления первых поселений на реке Подкаменная Тунгуска» (имена и отчества местных жителей нуждаются в проверке – Коханов К.П.) (http://site.krasarh.ru/articles/stati_arhivistov/451)
Участник экспедиции Леонида Кулика в 1929-1930 годах Е. Л. Кринов, автор монографии «Тунгусский метеорит» (М.-Л., 1949) решил рассматривать, в отличии от Константина Коханова, траекторию полёта Тунгусского метеорита, от места его падения, как уже о точно установленном им месте, только, в отличии от Леонида Кулика, в другом болоте:
«…Наиболее удалённым пунктом, где отмечены звуковые явления, сравнимые со стрельбой из пушек, является Ачаевский улус, расположенный на расстоянии около 1200 км от места падения метеорита. Крайним пунктом, где были отмечены световые явления, является Знаменское б. Иркутской губернии, расположенное на расстоянии около 710 км от места падения метеорита к юго-юго-востоку.
Перейдём к детальному критическому рассмотрению отдельных, наиболее интересных, сообщений очевидцев падения, главным образом тех, в которых отмечены световые явления. Многие из описаний настолько интересны для характеристики масштабов явления, что мы приводим их здесь полностью. В противоположность предыдущему целесообразнее рассмотреть описания в обратном направлении, а именно – следуя по пунктам наблюдений в направлении от места падения метеорита.
Ближайшим пунктом наблюдения, не считая кочевий эвенков, является фактория Ванавара. Здесь падение метеорита из опрошенных очевидцев наблюдали трое. Наиболее важные сведения дал С. Б. Семенов. Его опрашивал Кулик в 1927 г., и автор (Кринов) – в 1930 г. Здесь мы приводим показания, полученные автором (Криновым), которые, впрочем, ничем существенно не отличаются от предыдущих его показаний.
Семёнов рассказал следующее:
С. Б. Семенов: «Точно год не помню, но больше двадцати лет назад, во время пахоты паров, в завтрак я сидел на крыльце дома на фактории Ванаваре и лицом был обращен на север. Только я замахнулся топором, чтобы набить обруч на кадушку, как вдруг на севере, над тунгусской дорогой Василия Ильича Онкоуль (зимняя дорога Метеоритной экспедиции, – Е. Кринов) небо раздвоилось и в нём широко и высоко над лесом (как показывал Семёнов, на высоте около 50°, – отмечает Е. Кринов) появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, что словно на мне загорелась рубашка, причем жар шёл с северной стороны. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но в этот момент небо захлопнулось и раздался сильный удар. Меня же сбросило с крыльца сажени на три. В первый момент я лишился чувств, но выбежавшая из избы моя жена ввела меня в избу. После же удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек, земля дрожала, и когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили голову. В тот момент, когда раскрылось небо, с севера пронесся мимо изб горячий ветер, как из пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек и повредил росший лук. Потом оказалось, что многие стёкла в окнах были выбиты, а у амбара переломило железную накладку для замка у двери. В тот момент, когда появился огонь, я увидел, что работавший около окна избы II. П. Косолапов присел к земле, схватился обеими руками за голову и убежал в избу.
Дочь Семенова, А. С. Косолапова, опрошенная автором (Криновым) в 1930 г., уже в возрасте 41 года, сообщила следующее:
А. С. Косолапова: «Мне было 19 лет, и во время падения метеорита я была на фактории Ванаваре. Мы с Марфой Брюхановой пришли на ключ (за баней фактории) по воду. Марфа стала черпать воду, а я стояла подле нее, лицом к северу. Вдруг я увидела перед собой на севере, что небо раскрылось до самой земли и пыхнул огонь. Мы испугались, но небо снова закрылось и вслед за этим раздались удары, похожие на выстрелы. Мы подумали, что с неба надают камни и в испуге бросились бежать, оставив у ключа свой ушат. Я бежала, пригнувшись и прикрыв голову, боясь, как бы на голову не упали камни. Марфа бежала позади меня. Подбежав к дому, мы увидели моего отца, С. Б. Семенова, лежавшего у амбара 6eз чувств напротив крыльца дома. Марфа и я ввели его в избу. Было ли во время появления огня жарко, я не помню. В то время мы сильно испугались. Огонь был ярче солнца. Во время звуков земля и избы сильно дрожали, а в избах с потолков сыпалась земля. Звуки сначала были очень сильные и слышались прямо над головой, а потом постепенно стали все тише и тише».
Упоминавшийся Семеновым третий очевидец с Ванавары, П. П. Косолапов, опрошенный Л. А. Куликом в 1927 г. [12], сообщил следующее:
П. П. Косолапов: «В июне 1908 г., часов в 8 утра я собирался на фактории Ванаваре на сенокос и мне понадобился гвоздь. Не найдя его в избе, я вышел во двор и стал вытаскивать гвоздь щипцами из наличника окна. Вдруг мне что-то как бы сильно обожгло уши. Схватившись за них и думая, что горит крыша, я поднял голову и спросил сидевшего у своего дома на крыльце С. Б. Семенова: «Вы что, видели что-нибудь?» – «Как не видать, отвечал тот, мне тоже показалось, что меня как бы жаром охватило. После этого я сразу же пошел в избу, но только что я вошел в неё и хотел сесть на пол за работу, как раздался удар, посыпалась с потолка земля, вылетела из русской печи на стоявшую против печи кровать заслонка от печи и было вышиблено в избу одно стекло из окна. После этого раздался звук, наподобие раскатов грома, удалявшихся к северу. Когда стало потом потише, то я выскочил на двор, но больше ничего уже не заметил».
Теперь рассмотрим показания очевидцев С. Б. Семенова и П. П. Косолапова, которые приводит Л. А. Кулик в статье «К вопросу о месте падения тунгусского метеорита 1908 года» (Доклады Академии Наук СССР 1927, №23, стр.399-402):
«…К изложенному необходимо добавить, что продолженный мною сбор показаний местных очевидцев падения дал ряд интересных сведений, из которых привожу следующие.
Крестьянин С. Б. Семёнов сообщил мне в письменной форме:
«Дело было в 1908 г. в июне месяце, часов в 8 утра; я в это время жил на Подкаменной Тунгуске, на фактории Ановара (Вановара – Л.К.) и занимался работой у своей избы. Сидел на крыльце по направлению лицом на север и в это время на северо-западе образовалось, в момент, огненное воспламенение, от которого получился такой жар, что невозможно было сидеть, – чуть-чуть не загорелась на мне рубашка. И такое раскаленное чудо, я заметил, что оно занимало пространство не менее 2-х верст. Но зато такое воспламенение существовало очень мало; я успел только кинуть глаза и посмотреть, в каком размере, и моментально закрылось… После сего закрытия сделалось темно, и в то же время получился взрыв, которым меня бросило с крыльца так, приблизительно, на сажень или больше, но я остался без сознания не очень большое время, я пришел в себя и такой получается звук, что все дома тряслись и как будто двигались с места. Ломало стекла и рамы в домах и посредине площади у изб вырвало полосу земли и в то же время у амбара на двери переломило так называемую железную спицу, а замок уцелел».
Другой крестьянин, П. П. Косолапов, лично рассказал мне 30 марта 1927 г., что в июне 1908 г., часов в 8 утра, он собирался на той же фактории на сенокос («покос»); ему понадобился гвоздь; не найдя его в комнатах, он вышел во двор и стал вытаскивать щипцами гвоздь из наличника окна:
Вдруг ему что-то как бы сильно обожгло уши. Схватившись за них и думая, что горит крыша, он поднял голову и спросил сидящего у своего дома на крылечке С. Б. Семенова: «Вы что, видели что-нибудь?» – «Как не видать», отвечал тот, «мне тоже показалось, что меня как бы жаром охватило». П. П. Косолапов тут же пошел в дом, но только что вошел в комнату и хотел сесть на пол к работе, как раздался удар, посыпалась с потолка земля, вылетела из русской печи на стоящую против печи койку заслонка от печи и было вышиблено в комнату одно стекло из окна. После этого раздался звук наподобие раскатов грома, удаляющихся к северу. Когда стало потом потише, то П. П. Косолапов выскочил на двор, но больше ничего уже не заметил.
Если заглянуть в «ПОКАЗАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ ТУНГУССКОГО ПАДЕНИЯ» (ВАСИЛЬЕВ Н. В., КОВАЛЕВСКИЙ А. Ф., РАЗИН С. А., ЭПИКТЕТОВА Л. Е., ТОМСК – 1981), то о показаниях С. Б. Семёнова там написано следующее:
Очень важны показания крестьянина. С.Б. Семенова, которые сообщил Л. А. Кулику брат (?) С. Б. Семенова, Афанасий Семёнов. В своём письме Л.А. Кулику в Ванавару от 26 марта 1927 года он писал:
«Спешу сообщить Вам показания Семёна Борисовича. Дело было в 1908 году в июне месяце, часов в 8 утра, я в это время жил на Подкаменной Тунгуске, на фактории Ановара и занимался работой у своей избы. Сидел на крыльце по направлению лицом на север и в это время на северо-западе образовалось, в момент, огненное воспламенение, от которого получился такой жар, что невозможно было сидеть, чуть-чуть не загорелась на мне рубашка. И такое раскаленное чудо, я заметил, что оно занимало пространство не менее 2-х верст. Но зато таковое воспламенение существовало очень мало; я успел только кинуть глаза и посмотреть, в каком размере, и моментально закрылось. После сего закрытия сделалось темно, и в тоже время получился взрыв, которым меня бросило с крыльца, так, приблизительно, на сажень или больше, но я остался без сознания не очень большое время, я пришел в себя и такой получается звук, что все дома тряслись и как будто двигались с места. Ломало стекла в домах и посередине площади у изб вырвало полосу земли и в то же время у амбара на двери переломило так называемую железную сницу, а замок уцелел». /Архив КМЕТ, р. 43/.
Как мы видим показания очевидцев падения Тунгусского метеорита в 1908 году в Ванаваре опубликованы в трёх источниках: на них ссылается Л. А. Кулик в своей статье в 1927 году, их приводит в своей монографии Е. Л. Кринов в 1949 году, и они перечислены в Томском сборнике показаний очевидцев в 1981 году.
Интересны эти показания не тем, что они совпадают в главном, а в том, что, когда они брались повторно Е. Л. Криновым, они существенно отличались в «мелочах».
В своих статьях (очерках) к 110-ти и 111-ти годам падения Тунгусского метеорита, Константин Коханов, если и рассматривал показания вышеприведённых очевидцев, то только совместно с показаниями эвенков, которые в 1908 году, якобы на реке Чамбе «пострадали» от вызванной падением Тунгусского метеорита бури. При этом им были приведены достаточно убедительные доказательства того, что эта «буря» никакого отношения к Тунгусскому метеориту не имела и, вообще, могла быть даже не в 1908 году, как и обнаруженный Леонидом Куликом ветровал в ста километрах северо-западнее Ванавары.
И главное у него не возникает никаких сомнений в том, что чум с Акулиной был поднят вверх смерчем, который пролетел, даже покружился, над эвенком Иваном Ивановичем Аксёновым, «и посмотрел на него», пролетая над Чамбой, с севера на юг, в противоположным от полёта метеорита направлении. И то, что Аксёнов видел именно «Чёрта» (или «Дьявола»), он отметил в первых своих показаниях, но при последующих, неоднократных, бестактных, издевательских опросах, больше о Чёрте не упоминал, а потом, вообще, стал уклоняться от контактов с томскими исследователями проблемы Тунгусского метеорита.
В 1972 году Константин Коханов узнал при разговоре с руководителем КСЭ Николаем Васильевым, что Аксёнов находится в больнице и только от одной русской речи его самочувствие резко ухудшается. Ему хотелось сказать будущему академику, – «ну, вот довели человека своими опросами до больницы», – но он тогда всё-таки промолчал.
На что следует обратить внимание при опросах ванаварских очевидцев Леонидом Куликом, так на указанное направление, где они видели вспышку от «взрыва» метеорита: Семён Семёнов в письме к Кулику якобы, с его слов, указывает, что наблюдал вспышку на севере-западе, там, где Куликом был обнаружен «радиальный» вывал тайги.
Дословно те же показания, повторяются в «Томском сборнике показаний очевидцев падения Тунгусского метеорита». Единственно, там уточняется, что письмо написал не сам Семён Семёнов, а его брат (?) Афанасий Семёнов (всё то, что ему было Семёном рассказано) и главное, что «дело было в 1908 году в июне месяце, часов в 8 утра». Тут следует обратить внимание, что год и месяц падения Тунгусского метеорита указан точно, в отличии от опроса Семёна Семёнова, который сделал, спустя три года Евгений Кринов: «Точно год не помню, но больше двадцати лет назад…».
К тому же он ещё ТРИЖДЫ сказал (повторил) в каком направлении появился огонь:
«…Только я замахнулся топором, чтобы набить обруч на кадушку, как вдруг на севере (1), над тунгусской дорогой Василия Ильича Онкоуль (зимняя дорога Метеоритной экспедиции, – Е. Кринов) небо раздвоилось и в нём широко и высоко над лесом (как показывал Семёнов, на высоте около 50°, – отмечает Е. Кринов) появился огонь, который охватил всю северную часть неба (2). В этот момент мне стало так горячо, что словно на мне загорелась рубашка, причем жар шёл с северной стороны (3).
Очевидца П. П. Косолапова Е. Л. Кринов не «перерасспрашивал», (приводит результаты его опроса, сделанные Леонидом Куликом, но зато он опросил дочь Семёна Семёнова А. С. Косолапову, которая ДВАЖДЫ указала в каком направлении «пыхнул огонь»:
«…Мы с Марфой Брюхановой пришли на ключ (за баней фактории) по воду. Марфа стала черпать воду, а я стояла подле нее, лицом к северу (1). Вдруг я увидела перед собой на севере (2), что небо раскрылось до самой земли и пыхнул огонь…».
Может показаться странным, по каким причинам Е. Л. Кринов не стал снова расспрашивать П. П. Косолапова, но легко догадаться, что указанное им направление раскатов грома, удалявшихся к СЕВЕРУ, не противоречило, сделанным Е. Л. Кринову показаниям, Семёна Семёнова и его дочери А. С. Косолаповой:
«…После этого (как только П. П. Косолапову обожгло уши и разговора с Семёном Семёновым) я сразу же пошёл в избу, но только что я вошел в неё и хотел сесть на пол за работу, как раздался удар, посыпалась с потолка земля, вылетела из русской печи на стоявшую против печи кровать заслонка от печи и было вышиблено в избу одно стекло из окна. После этого раздался звук, наподобие раскатов грома, удалявшихся к северу. Когда стало потом потише, то я выскочил на двор, но больше ничего уже не заметил».
Скорее всего Леонид Кулик сознательно внёс исправления в полученные им показания ванаварских очевидцев Семёна Семёнова и П. П. Косолапова в части направления звуковых и световых явлений, связанных с полётом Тунгусского метеорита и воздействия на местность и домашние предметы его сверхзвуковой волны, для «убедительного доказательства», что обнаруженный им «радиальный ветровал» на севере-западе от Ванавары, имеет прямое отношение к падению там Тунгусского метеорита.
Константин Коханов на сто процентов уверен, если при воздействии ударной волны из печи вылетела заслонка на кровать, то одно из стёкол окна вылетело не в избу, а наружу.
Тунгусский метеорит, судя даже по рассказам очевидцев, которые сначала видели полёт Тунгусского метеорита, а только за ним следом слышали издававшиеся им звуки или взрывы с сотрясением земли, летел с гиперзвуковой скоростью, дробясь в нижних слоях атмосферы, сначала на крупные части, потом на более мелкие, которые перед падением на землю всё равно могли сохранять сверхзвуковую скорость. Отсюда и рассказы очевидцев, что полёт Тунгусского метеорита сопровождался огненными вспышками, ярче солнца, тремя сильными взрывами, десятками пушечных выстрелов и длительной пулемётной стрельбой.
2. 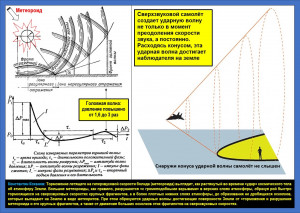
Комментарий Константина Коханова к коллажу о гиперзвуковой и сверхзвуковой скорости падающих на землю болидов:
Торможение летящего на гиперзвуковой скорости болида (метеороида) выглядит, как растянутый во времени «удар» космического тела об атмосферу Земли. Большие метеороиды, как правило разрушаются «с громоподобными взрывами» в верхних слоях атмосферы, образуя рой быстро тормозящихся на сверхзвуковых скоростях крупных фрагментов, а в более плотных нижних слоях, до образования не дробящихся осколков, которые выпадают на Землю в виде метеоритов.
При этом образуются ударные волны достигающие поверхности Земли от «торможения и разрушения метеороида и его крупных фрагментов, а также от движения больших осколков этих фрагментов на сверхзвуковых скоростях.
Например, сверхзвуковой самолет создает ударную волну не только в момент преодоления скорости звука, а постоянно. Расходясь конусом, эта волна достигает наблюдателя на земле.
Перед движущимся самолетом всегда возникает область повышенного давления. На относительно небольших скоростях это давление порождает только звуковые волны, расходящиеся в стороны.
Но когда скорость самолета достигает скорости звука, акустические волны не успевают удаляться от него. Их скопление ведет к резкому росту давления перед самолетом. Возникает тонкий слой сильно сжатого воздуха – ударная волна, расходящаяся конусом.
Эта волна надвигается бесшумно, но когда она проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. И это воспринимается человеком, как громкий хлопок.
При обследовании Константином Кохановым последствий воздействия взрывных ударных волн от взрыва и полёта на сверхзвуковой скорости, первоначально раздробившегося на крупные фрагменты Челябинского метеорита, под траекторией его полета на местность в населённых пунктах Березняки и Депутатский (в советское время, переименованный в посёлок Сталино), ему в посёлке Березняки на улице Лесной, показали дом, где ударной волной было выдавлена наружу вся оконная рама, а в посёлке Депутатский, разбитые стёкла в местном магазине с сохранившимися ещё частично на улице мелкими осколками стекла.
3. 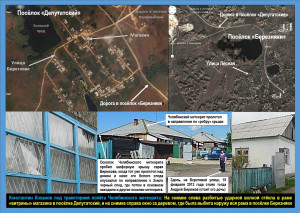
На среднем снимке нижней части коллажа показано, где осколок Челябинского метеорита пробил шиферную крышу сарая Андрея Бирюкова, когда тот уже пролетел 15 февраля 2013 года над домом соседа и ниже его белого следа опускался по направлению к Земле чёрный след, где потом в основном находили и другие осколки метеорита.
Константин Коханов попросил Андрея Бирюкова встать там, где он находился во время полёта Челябинского метеорита на Береговой улице, но он постеснялся и попросил, в указанном им месте, встать свою дочь Настю, и немаловажно, сам при этом уточнил, что Челябинский метеорит пролетел
В своих шести очерках «Челябинский метеорит или что-то иное» (четыре в 2013 году и два в 2016 году) Константин Коханов опубликовал фотографии последствий от действия «взрыва Челябинского метеорита в этих населённых пунктах и в городе Челябинске», а также написал о попытках найти какие-либо убедительные доказательств образования осколком этого метеорита восьмиметровой проруби («воронки») во льду озера Чебаркуль.
В 2016 году главным для Константина Коханова, в Челябинской области, было познакомиться с публикациями о Челябинском метеорите в местной прессе (в городах Златоуст и Сатка) и, заодно, пообщаться с главным «очевидцем» его падения в озеро Чебаркуль, камера видеонаблюдения которого, запечатлела «это историческое событие».
Для Константина Коханова было полной неожиданностью, что интерес в самой Челябинской области, среди населения, к полёту над ней Челябинского метеорита в 2016 году, полностью угас. В этом он смог убедиться, когда посетил редакции газет «Златоустовский Рабочий» и «Саткинский Рабочий», а также городские библиотеки городов Златоуста и Сатки.
Посещение Константином Кохановым редакций местных газет, было отмечено на их сайтах, но подшивки газет за прошедшие годы были только в редакции «Саткинский Рабочий».
Но зато, опубликованная в 2013 году в февральском номере газеты «Саткинский Рабочий» статья с фотографией полёта Челябинского метеорита в районе города Сатки, которую очевидец сделал под траекторией его полёта, позволила Константину Коханову определить, наконец для себя точно, направление траектории полёта Тунгусского метеорита, после повторного рассмотрения показаний очевидцев полёта метеорита в 1908 году над селом Кежма, с юга на север, с учётом воздействия его взрыва и вспышки на жителей фактории Ванавара, с той же северной стороны.
4. 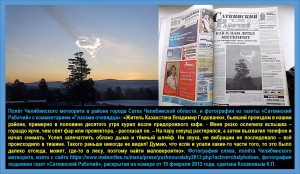
На коллаже сверху фотография Полёта Челябинского метеорита в районе города Сатка Челябинской области, и фотография из газеты «Саткинский Рабочий» с комментарием «Глазами очевидца»:
«Житель Казахстана Владимир Годованюк, бывший проездом в нашем районе, примерно в половине десятого утра курил возле придорожного кафе. – Меня резко ослепила вспышка – гораздо ярче, чем свет фар или прожектора, – рассказал он. – На пару секунд растерялся, а затем выхватил телефон и начал снимать. Успел запечатлеть облако дыма и тёмный шлейф. Ни звука, не вибрации не последовало – всё происходило в тишине. Такого раньше никогда не видел! Думаю, что если и упали какие-то части того, то это было далеко отсюда, может, где-то в лесу, поэтому найти маловероятно».
Фотография слева, полёта Челябинского метеорита, взята с сайта https://www.meteorites.ru/menu/press/yuzhnouralsky2013.php?active=chelphotoes, фотография подшивки газет «Саткинский Рабочий», раскрытая на номере от 19 февраля 2013 года, сделана Кохановым К.П.
Почти весь полёт Челябинского метеорита можно проследить по записи с видеорегистраторов. Полёт Тунгусского метеорита описал ссыльный Науменко, который посмотрел в направлении удара грома и «увидел, что лучи солнца, пересекались широкой огненно-белой полосой с правой стороны лучей (солнца); с левой же, по направлению к северу (или, если взять от Ангары, – за Кежемское поле), в тайгу летела неправильной формы ещё более огненно-белая (бледнее солнца, но почти одинаковая с лучами солнца) несколько продолговатая масса в виде облачка («комка»), диаметром гораздо больше луны и без правильных очертаний краев…».
5. 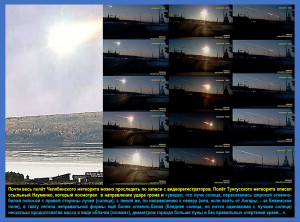
Короче говоря, в Кежме почти все очевидцы видели, что Тунгусский метеорит летел на СЕВЕР, и лишь некоторые с небольшим склонением к востоку. А на фактории Ванавара сам полёт метеорита никто не видел, но зато очевидцы почувствовали землетрясение, а также все слышали и видели именно на СЕВЕРЕ, гром и вспышку.
Следует отметить, что по сравнению с показаниями очевидцев Кежмы и Ванавары, намного подробнее излагается в сообщении о падении Тунгусского метеорита, опубликованном в газете «Красноярец» в №153 от 13 июля 1908 года, которое уже было полностью приведено выше:
«…Небо на первый взгляд было совершенно чисто. Ни ветра, ни облаков не было. Но при внимательном наблюдении, на СЕВЕРЕ, т.е. там, где, казалось, раздавались удары, – на горизонте ясно замечалось нечто, похожее, на облако пепельного вида, которое, постепенно уменьшаясь, делалось более прозрачным и к 2 – 3 часам дня совершенно исчезло…
…Но зато многие в разных селениях отлично видели, что с прикосновением летевшего предмета к горизонту, в том месте, где впоследствии было замечено указываемое выше, своеобразное облако, но гораздо ниже расположения последнего – на уровне лесных вершин как бы вспыхнуло огромное пламя, раздвоившее собою небо.
Сияние было так сильно, что отражалось в комнатах, окна которых обращены к СЕВЕРУ, что и наблюдали, между прочим, сторожа волостного правления. Сияние продолжалось, по-видимому, не менее минуты, так как его заметили многие бывшие на пашнях крестьяне. Как только «пламя» исчезло, сейчас же раздались удары…».
6. 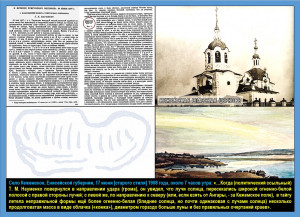
На коллаже, помещённым выше, показано письмо ссыльного Т. М. Науменко, опубликованное в журнале «Мироведение» с его рисунком «облачка в виде комка», которое в увеличенном виде показано под его письмом. В правой части коллажа фотография Кежемской Спасской церкви, ниже которой осветлённая Константином Кохановым картина из триптиха «Пролёт над Ангарой» Тунгусского метеорита художника Николая Фёдорова (участника экспедиции Леонида Кулика 1939 года). Село Кежемское, Енисейской губернии, 17 июня [старого стиля] 1908 года, около 7 часов утра:
«…Когда (политический ссыльный) Т. М. Науменко повернулся в направлении удара (грома), он увидел, что лучи солнца, пересекались широкой огненно-белой полосой с правой стороны лучей; с левой же, по направлению к северу (или, если взять от Ангары, – за Кежемское поле), в тайгу летела неправильной формы ещё более огненно-белая (бледнее солнца, но почти одинаковая с лучами солнца) несколько продолговатая масса в виде облачка («комка»), диаметром гораздо больше луны и без правильных очертаний краев».
Почти тоже самое увидел очевидец полёта Челябинского метеорита, после того как его ослепила, словно прожектором вспышка, которая заставила обернуться и снять камерой телефона, удалявшийся от него след метеорита, тоже, практически в виде облачка («комка») … и без правильных очертаний краёв.
Одно можно сказать совершенно точно, что политический ссыльный в Кежме Т. М. Науменко и очевидец житель Казахстана Владимир Годованюк в Сатке, оба находились под траекториями полётов метеоритов – первый под траекторией Тунгусского метеорита, а второй под траекторией Челябинского метеорита.
Учитывая и другие показания очевидцев в Кежме (кроме ссыльного Т. М. Науменко), в том числе главного из них уездного исправника Солонины, написавшему рапорт енисейскому губернатору о пролёте разрядившегося пушечными выстрелами над Кежмой аэролитом, Константин Коханов считает, что траектория полёта Тунгусского метеорита была направлена с юга на север, не исключено, что с небольшим склонением на северо-северо-восток, но только не с юго-востока на северо-запад или юго-юго-востока на северо-северо-запад, на основании показаний очевидцев, в основном сделанных в 1960-х годах, и по оси симметрии «бабочки вывала тайги», который больше напоминает картину обыкновенного ветровала, вызванного ураганами, хотя, скорее всего, смерчем:
7. 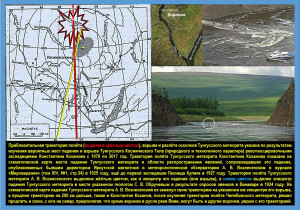
На коллаже (выше по тексту) показана приблизительная траектория полёта (выделена красным цветом), взрыва и разлёта осколков Тунгусского метеорита указана по результатам изучения вероятных мест падения и взрыва Тунгусского Космического Тела (природного и техногенного характера) рекогносцировочными экспедициями Константина Коханова с 1970 по 2017 год.
Траектория полёта Тунгусского метеорита Константина Коханова показана на схематической карте места падения Тунгусского метеорита и области распространения явлений, сопровождавших его падение, опубликованных бывшим директором Иркутской магнитной и метеорологической обсерватории А. В. Вознесенским в журнале «Мироведение» (том XIV, №1, стр.34) в 1925 году, ещё до первой экспедиции Леонида Кулика в 1927 году.
Траектория полёта Тунгусского метеорита А. В. Вознесенского выделена жёлтым цветом, как и эпицентр его падения (или взрыва), а синим цветом выделен эпицентр падения Тунгусского метеорита в месте указанном геологом С. В. Обручевым в результате опросов эвенков в Ванаваре в 1924 году.
На схематической карте падения Тунгусского метеорита А. В. Вознесенский не замкнул свою траекторию на указанном им эпицентре его взрыва, а продлил траекторию на 200 км дальше, так же и Константин Коханов, после изучения траектории полёта Челябинского метеорита, решил продлить и свою, с юга на север, предполагая, что кроме воронки в русле реки Виви, могут быть и другие воронки, рядом с его траекторией.
Константин Коханов не сомневается, что траектория полёта Тунгусского метеорита была направлена с юга на север, хотя и не исключено, что могла быть и с небольшим склонением на северо-северо-восток, но только не с юго-востока на северо-запад или с юго-юго востока на северо-северо-восток, как в этом уверены почти все известные исследовали Проблемы Тунгусского метеорита, после А. В. Вознесенского, основывая свои заключения на показаниях очевидцев в 1960-х годах или ссылаясь на ось симметрии вывала тайги, из-за отклонений в направлении стволов поваленных деревьев, имеющий вид «бабочки».
Казалось бы, Константину Коханову на этом можно было и закончить свою «неюбилейную статью», как говорят подвести под ней не простую, а даже жирную черту, но ему всё-таки захотелось до конца разобраться, каким образом Леониду Кулику удалось завести в глухой тупик Проблему Тунгусского метеорита, и кто ему в этом деле помогал или способствовал, чтобы поиски метеорита ограничились границами ветровала между реками Чамба и Кимчу и не перекинулись в места традиционного кочевания эвенков. вблизи факторий заготовителей пушнины на реке Чуня и даже во всём междуречье Подкаменной и Нижней Тунгусок.
Первые опросы на фактории Ванавара, связанные с падением Тунгусского метеорита о вероятном месте его взрыва или падения, провёл геолог С. В. Обручев, правда только среди одних эвенков в 1924 году во время своей экспедиции на Подкаменную Тунгуску.
Рассмотрим некоторые подробности, связанные с маршрутом экспедиции С. В. Обручева до Подкаменной Тунгуски и её спуск по ней до фактории Ванавара, имеющие отношение к траектории полёта Тунгусского метеорита, к его падению или взрыву.
С. В. Обручев в Ванаваре в 1924 году (из книги С. В. Обручев «В неизведанные края», Молодая гвардия, 1954, стр.227-229):
«…В 160 километрах от Верхних Контор, ниже устья реки Ванавары, мы добрались до следующей фактории. Почти все фактории на Подкаменной Тунгуске были недавно отстроены, новые избы белели на берегу среди темной тайги. Обычно это были две или три избы: дом заведующего, склад и дома других сотрудников фактории.
Наш приезд представлял для жителей фактории большое событие: илимки с грузом снизу уже давно прошли, и больше гостей в этом году летом не ожидали, разве только проплывут вниз пустые лодки. Заведующий факторией принимал нас с по четом и угощал, чем только мог: на столе появлялись соленая рыба, икра, соленые грибы, белые булочки или шаньги, иногда сметана, а по осени варенье из голубики – основной ягоды на берегах Подкаменной Тунгуски:
В Ванаваре мне предстояло заняться одним интересным делом: перед моим отъездом из Москвы А. В. Вознесенский, известный климатолог и сейсмолог, долгое время заведовавший Иркутской метеорологической обсерваторией, обратил моё внимание на то, что к северу от Подкаменной Тунгуски, в бассейне Ванавары должно находиться место падения большого Тунгусского (или, как его тогда называли, Хатангского) метеорита, пролетевшего с юга через Средне-Сибирское плоскогорье 30 июня 1908 года.
Тогда ещё не было никаких точных данных о месте его падения, но А. В. Вознесенский, сопоставив все сведения, полученные Иркутской обсерваторией от её корреспондентов о направлении полёта метеорита, пришел к выводу, что он упал к северу от Подкаменной Тунгуски, приблизительно в бассейне Ванавары.
В 1921 году Л. Кулик, собиравший в Западной Сибири сведения о падении метеоритов, получил сообщение, что метеорит 1908 года упал в районе реки Ванавары. Метеорит этот был совершенно исключителен по интенсивности световых, звуковых и сейсмических явлений, которые его сопровождали, и поэтому очень важно было установить место его падения.
Уже при расспросах на Ангаре я выяснил, что гул от взрыва или падения метеорита был слышен во всех деревнях от Дворца до Пановского. С северной стороны домов дрожали стекла, падали с полок вещи; в одном случае лошадь, на которой ехали, упала. В фактории Тэтэрэ видели на севере огненные столбы.
В фактории Ванавара во время нашего приезда было несколько эвенков, которых я и стал расспрашивать о метеорите. Но все опрошенные мною не видели лично, как и где упал метеорит.
Они знали только, что в этот день был повален лес на пространстве примерно в 680 квадратных километров, имеющем форму круга. Площадь эта находилась не на реке Ванаваре, а на реке Чамбе, впадающей справа в Подкаменную Тунгуску в 30 километрах ниже.
Эвенки нарисовали мне карту этого участка – область поваленного леса лежала на правом берегу реки Чамбе и захватывала её притоки Хусму (Хушмо), Илюму и Макетту.
Я долго расспрашивал эвенков, и мне казалось, что они скрывают место падения метеорита, считая его священным. Про одного из эвенков заведующий факторией рассказывал, что тот видел яму, пробитую метеоритом, но этот эвенк сказал мне при опросе, что он такой ямы не видел, а говорит со слов других эвенков, кочующих по Чамбе.
Только эвенк Илья Потапович, живший в фактории Тэтэрэ, дал более определенные сведения. Он рассказал, что его брат жил во время падения метеорита как раз на этом участке, и его чум «взлетел на воздух, как птица», олени частью разбежались, а частью были убиты падающими деревьями, а брат от испуга лишился языка на несколько лет. На том месте, где упал камень, есть яма, а из нее течет ручей в Чамбе.
Как сообщали эвенки, место падения метеорита отстояло от устья Чамбе на четыре дня пути на берестянке, то есть приблизительно на 100 километров. Зимой можно было проехать на оленях без дороги по прямому направлению за три дня. Эвенки соглашались показать мне площадь с поваленным лесом. Для этого надо было поехать с одним из них на берестянке сначала вниз по Подкаменной Тунгуске, потом вверх по Чамбе и дальше пешком, в верховья Хушмо, где был центр захваченной бурело мом площади.
Сначала я хотел поехать к месту падения метеорита, но потом рассчитал, что путь туда и обратно займет не меньше десяти дней. Нам предстояло изучить Подкаменную Тунгуску на протяжении еще 1300 километров. На этот большой маршрут требовалось много времени, а осень уже не за горами.
Между тем кратковременное посещение места падения метеорита не могло дать серьёзных научных результатов: я увидал бы только лес, поваленный в разные стороны; поиски в тайге на такой большой площади обломков метеорита или ям от его падении (которых эвенки не могли указать) требовали много времени и участия многих сотрудников. Поэтому с большим огорчением пришлось отказаться от поездки на Чамбе и продолжать свои геологические исследования.
Будущее показало, что я был прав в этом решении. Несколько специальных экспедиций Л. Кулика, снаряженных для поисков Тунгусского метеорита, работавших в бассейне Чамбе несколько лет – в 1927, 1928, 1929-1930, 1937-1938 и 1939 годах, не смогли найти ни кусков метеорита, ни впадин от его падения. Даже аэросъемка 1937-1938 годов могла обнаружить лишь поваленный взрывом метеорита лес, и только ориентировка стволов, лежащих по радиусам, исходящим из одного центра, указывала на возможное место падения…». http://rgo-sib.ru/book/geo/7.htm
В книге «В неизведанные края», в главе «Ближняя Катанга, была приведена «Схематическая карта маршрутов С. В. Обручева по Енисею и его правым притокам».
Константином Кохановым на карту этих маршрутов экспедиции С. В. Обручёва 1924 года, был внесён город Канск и разъезды Лялька и Филимоново. Красным цветом выделены населённые пункты, где видели и слышали полёт Тунгусского метеорита, а синим цветом, где отмечена только слышимость звуков из монографии Е. Л. Кринова «Тунгусский метеорит» (М.- Л., 1949, фиг.5).
8. 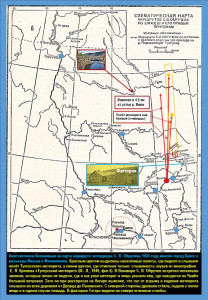
В Ванаваре С. В. Обручев встретил несколько эвенков, которые лично не видели, где и как упал метеорит и лишь указали ему, где находится на Чамбе большой ветровал. Зато он при расспросах на Ангаре выяснил, что гул от взрыва и падения метеорита слышали во всех деревнях от Дворца до Пановского. С северной стороны дрожали стёкла, падали с полок вещи и в одном случае лошадь. В фактории Тэтэрэ видели на севере огненные столбы.
При этом, отмечая, что «гул от взрыва и падения был слышен во всех деревнях от Дворца до Пановского» и что только «в фактории Тэтэрэ видели на СЕВЕРЕ огненные столбы», С. В. Обручев ничего не говорит, про очевидцев в Кежме, что они там видели, а не только слышали, когда «сменив ямщиков добрались до села Кежмы» и оставшиеся «от Кежмы до Пановского 50 километров… прошли их легко и быстро».
И, вообще, описанная в книге С. В. Обручевым его экспедиция на Подкаменную Тунгуску в части информации о её научном характере, вызывает больше вопросов, чем приводит факты, каким образом и когда были сделаны им там, «выдающиеся открытия». Вся эта его экспедиция в книге, судя по её описанию, напоминает обычный экстремальный туристических поход, причём основанный на одних воспоминаниях, а не на основе записей в путевом дневнике или хотя бы сделанного после неё научного отчёта.
Рассказывая о своей экспедиции на Подкаменную Тунгуску в 1924 году, геолог С. В. Обручев «умудрился» не указать в книге «В неизведанные края» ни одной конкретной даты: нам известно только, что он её начал «летом» с Тайшета (стр.221) и закончил «поздней осенью в устье Подкаменной Тунгуски в одноимённом селении», где потом ещё ждал больше недели, чтобы отплыть оттуда, пароход (стр.235).
И всё-таки рассказ С. В. Обручева представляет собой определённый интерес «пикантными подробностями» его «похода» на Подкаменную Тунгуску.
От Тайшета «по колёсным и вьючным дорогам» на лошадях С. В. Обручев добрался до села Неванского на реке Чуна, но дальше на «неванском тракте» оказались разрушены мосты и везти груз на телегах было нельзя, поэтому им было принято предложение местных крестьян, по сплаву на плоту его с двумя студентами и грузом экспедиции вниз, по реке Чана до деревни Выдриной
Деревня Неванская располагалась в 50 верстах вверх по течению реки Чуна от д. Выдрино. На этом пространстве река имеет два больших порога. В начале 20 столетия переселенческое управление планировало освоить таёжные земли и построило дорогу на берегу реки Чуна. Дорога соединила этот населённый пункт с г. Нижнеудинском, с. Шиткино и д. Дворцом на Ангаре. https://davaiknam.ru/text/derevnya-nevanka-istoriya-lyudi-sudebi.
В Выдрино С. В. Обручев не без труда договорился с местными ямщиками (чтобы на лошадях, запряженных в павозки) перевезти его «экспедицию с грузом» до села Дворец.
От села Дворец С. В. Обручеву предстояло подняться вверх по Ангаре до села Пановского и пройти «несколько шивер и серьёзный порог Аплинский».
А там «Ангарские крестьяне уже в течение столетий до революции справляли «ямщину» – гужевую повинность (не на лошадях), а на лодках: на колесах ездили лишь вблизи деревень.
Нам, – как отмечает в своей книге С. В. Обручев, – в селении Дворец также предоставили большую лодку с ямщиками: одним мужчиной в качестве кормщика и несколькими женщинами – гребцами и бурлаками. Женщины на Ангаре справляются с лодками не хуже мужчин…
…Первые препятствия – Косой Бык и шиверы Медвежью и Ковинскую – мы прошли довольно легко. У Ковнской шиверы сменились ямщики, но опять почти весь экипаж был женский.
Гороховая шивера была также легко преодолена, но самое главное препятствие – Аплинский порог – было еще впереди. В этом пороге нам пришлось всем выйти из лодки и помогать женщинам тянуть бечеву…
За Аплинским порогом мы вошли в пределы главного поля Тунгусского бассейна, горы стали ниже, шиверы незначительны. Сменив ещё раз ямщиков, мы добрались до села Кежмы, крупнейшего на этом участке Ангары.
От Кежмы до Пановского 50 километров, и мы прошли их легко и быстро (но не указывает, кто на этот раз у него были «ямщиками и бурлаками»).
С некоторым трудом удалось мне собрать в Пановском необходимое число людей и лошадей, чтобы перебросить наш груз на Подкаменную Тунгуску. Ещё труднее было найти лоцмана, без которого пускаться в плавание по порогам невозможно.
Наконец нам указали старика Ивана Парфеновича, жившего в одной из островных деревень близ Пановского. Ивану Парфеновичу было в то время семьдесят пять лет, и дома он уже не принимал участия в тяжелых работах. Перспектива поехать на Подкаменную Тунгуску его соблазняла: он хотел потом навестить свою замужнюю дочь, которая жила в Красноярске. Правда, старик несколько страшился порогов Подкаменной Тунгуски: он проходил их один лишь раз…, но, в конце концов, удалось уговорить старика, и через день мы пустились в путь.
От Пановского до Верхних Контор около 125 километров. Тропа идет по ровному плоскогорью, возвышающемуся всего метров на 100 над Ангарой. Местами его прорезают плоские долинки, и только долина Чадобца – большого правого при тока Ангары – врезана более глубоко…
…Тропа крепкая, широко «рассечена»: по ней ездят уже много лет и зимой, и летом…
…Лошади идут быстро; но вот мы входим в долину маленькой речки, и начинаются болота. Это не бесконечные болота Якутии, по которым бредешь день за днем – они шириной всего в несколько десятков или в сотню метров, но зато гораздо опаснее: вечная мерзлота лежит здесь глубоко, и лошадь может провалиться по грудь.
Долго задержал нас приток Ангары Чадобец: в верховьях это была настоящая лесная река, текущая в обрывистых берегах, без галечников, в густых зарослях. Дно илистое, везде коряги – брод, очень опасный для лошадей. Пришлось соорудить мост из деревьев, перекинув их в узком месте через реку, и перетащить по нему весь груз. Лошадей прогнали порожняком.
На четвертый день мы спустились с этого однообразного плоскогорья в долину Подкаменной Тунгуски. На правом берегу открылись постройки Верхних Контор: несколько изб на террасе; кругом на небольшой полянке остатки пней, а дальше до горизонта безбрежная тайга. На реке видно несколько больших лодок, – может быть, одна из них станет нашей!
И действительно, заведующий факторией согласился дать нам одну илимку, так как ему надо было перегнать её к устью Подкаменной Тунгуски, чтобы будущей весной снова повести с грузом вверх по реке. Илимка – это узкая длинная лодка с острым длинным носом и тупой, срезанной кормой. Илимки строили раньше на Илиме, отсюда их название. Грузоподъемность илимки, в зависимости от размеров, — от трех до двадцати тонн. Их строят обычно крытыми, с большой крытой каютой. Наша илимка была еще без каюты, и мы решили сделать на ней удобное помещение, чтобы сократить время стоянок и создать хорошие условия для работы.
В ожидании, пока Иван Парфенович с помощью местного плотника построит из выданных факторией досок каюту, я решил подняться насколько возможно вверх по реке. Фактория дала нам небольшую лодку, и мы весело отправились в неизвестную страну.
Для моих студентов это была первая проба сил. Им пришлось теперь работать не только гребцами, но и тащить лодку бечевой. Так же как в прошлом году, я мог взять только одного рабочего, поэтому на студентов-коллекторов ложилась как научная, так и физическая работа.
Я сам сидел на корме, потому что подъём лодки по шиверам и порогам нельзя было доверить новичкам. Да и на спокойном плесе быстрый и легкий ход лодки, которую тащат бечевой, во многом зависит от кормщика: надо уметь вести лодку так, чтобы она не рыскала в реку, а шла ровно, параллельно берегу; надо все время уравновешивать тягу бечевы легким давлением кормового весла…
… Из-за недостатка времени мы поднялись только на 100 километров и не дошли до знаменитых Кеульских непроходимых порогов.
… Через пять дней мы вернулись в факторию. Илимка была заново проконопачена и осмолена, на ней белела каюта, занимавшая более половины длины лодки. Не хватало лишь крыши, которую для легкости решили сделать из брезента. Под брезентом, вдоль конька крыши, была проложена доска, по которой можно было ходить с носа на корму (дверь у каюты сделали только одну – спереди).
… Потянулись однообразные дни напряженной геологической работы…
… Утренний завтрак, поспешные сборы, и начинается плавание – лоцман и два гребца на илимке, а я с одним из студентов (чередующихся каждый день) в берестянке, чтобы иметь возможность осматривать береговые утесы, не останавливая лодки.
…Но спать в лодке (из-за комаров) было невозможно. Первый месяц нам приходилось каждый вечер ставить для ночлега палатку на берегу, низ её засыпать снаружи землей и вход завешивать большим полотнищем. Когда утром вылезешь из палатки, то обычно видишь, что на стенках илимки почти сплошным слоем сидят комары, привлеченные запахом человека. В 160 километрах от Верхних Контор, ниже устья реки Ванавары, мы добрались до следующей фактории (Ванавара).
Напротив фактории Ванавара мы изучали небольшое месторождение угля, интересное по влиянию на его состав жилы траппа, и при этом едва не искупались. Наша берестянка стала расползаться по швам; оттого ли, что мы ее слишком перегибали, вытаскивая на берег; или оттого, что смоляная заварка была слишком стара, но при переправе через реку она вдруг стала наполняться водой. Едва-едва успели мы догрести до берега и вылезли из лодки совершенно мокрые. Ванаварские эвенки пришли к нам на помощь и согласились дать взамен маленькую, двухместную берестянку. С этой лодкой мы обращались уже очень осторожно, и она прослужила нам до осени.
Ниже Ванавары находится первый из семи больших порогов Подкаменной Тунгуски – Чамбенский…
…Чамбенский порог имеет очень крутой уступ. Илимка и её лоцман блестяще выдержали это первое испытание, но Иван Парфенович сильно волновался. В особенности стал он беспокоиться перед порогами нижнего течения, которые знал плохо, и иногда мы с ним ходили по берегу вперед, чтобы посмотреть, как идёт слив воды. Иван Парфенович в порогах становился на коленях на кормовой конец каюты, чтобы лучше видеть камни, а я, сидя на носовом конце каюты, передавал его приказания студентам, которые гребли двумя тяжёлыми веслами.
На 1235-м километре от устья находится опасный порог Панолик. Летом на нём мало воды, и во многих местах выступают камни. При сплаве наша илимка несколько раз стукнулась дном о камни, но мощное течение пронесло лодку благополучно…» (стр.230).
Сколько времени (дней) потратил С. В. Обручев, чтобы приплыть (достигнуть) Ванавары, преодолев 160 км, об этом он не считает нужным говорить, так же и о том сколько дней провёл в самой Ванаваре, изучая её окрестности и опрашивая эвенков о местонахождении большого бурелома на Чамбе, образовавшего якобы после «взрыва или падения» Тунгусского метеорита, не говоря уже о том за сколько дней он, в конце концов, доплыл с лоцманом и студентами от Ванавары до Енисея.
Здесь можно только гадать или учесть опыт Леонида Кулика, который возвратившись после своей «Первой экспедиции 1927 года» в Ванавару, «купил шитик – лодку с высокими бортами и на ней с двумя спутниками, помощником Гюлихом и одним из ангарцев – спустился вниз до Енисея, проплыв за три недели неустанной гребли 1300 км по бурной и порожистой Катанге (Б. И. Вронский «Тропой Кулика», «Мысль», М., 1968, стр.22).
Всё-таки следует особенно отметить, что начало поиска места падения Тунгусского метеорита, непосредственно северо-западнее фактории Ванавара, которые предпринял Леонид Кулик в 1927 году, неразрывно связано с Иннокентием Михайловичем Сусловым:
Ещё в годы гимназической юности И. М. Суслов услышал первые сообщения о Тунгусской катастрофе от очевидцев этого явления: ангарских крестьян и рыбаков, рабочих, старателей и арендаторов золотых приисков, находившихся к северо-востоку от Енисейска, в тайге за 250-300 км.
С помощью преподавателя гимназии Р. А. Френкеля он пытался определить приблизительное географическое положение центра падения (или взрыва) метеорита и выявить возможные пути проникновения в этот район, но в 1912 году он окончил гимназию и уехал из Енисейска.
Сбор показаний очевидцев пришлось прекратить. И только в 1924-1925 г. И. М. Суслов возобновил эту работу в селах по берегам реки Ангары и частично на факториях Подкаменной Тунгуски [2].
И. М. Суслов не имел возможности заниматься специально исследованиями места падения метеорита, эти работы велись попутно с основными должностными обязанностями. С октября 1924 года по июнь 1929 год он был бессменным председателем Красноярского комитета Севера при Президиуме ВЦИК…
Е. Л. Кринов, астроном, участник экспедиции Леонида Кулика 1929 года, автор книги «Тунгусский метеорит», отмечал: «И. М. Суслов, будучи в марте 1926 года на факториях Ванаваре и Тетере, на р. Подкаменной Тунгуске, и (в фактории) Стрелке на р. Чуня, путем опроса эвенков собрал новые сведения о падении метеорита. Нужно сказать, что материалы, собранные Куликом, Вознесенским, Обручевым, не были известны Суслову, и поэтому он проводил опрос независимо от имевшихся уже сведений о метеорите» [5].
Используя суглан (съезд), который проходил с 1 по 4 июня 1926 года на фактории Стрелка, И. М. Суслов опросил 60 эвенков, которые дали ценные сведения о падении Тунгусского метеорита. Рассказы очевидцев: Лючеткана, Акулины, Василия Охчена, Андрея Онкоуля, Чучанчи и Чекарена были подтверждены делегатами.
По разрозненным сведениям и схематичным планам мест, где охотники встречали следы Тунгусского явления, И. М. Суслов составил первую опросную карту и довольно точно обозначил место падения метеорита…» (из монографии Е. Л. Кринова «Тунгусский метеорит», М-Л., 1949, стр.22-23)
17-го ноября 1926 года И. М. Суслов написал статью «К розыску большого метеорита 1908 г.», которая была опубликована в первом номере журнала «Мироведение» в 1927 г. Именно, данная статья легла в основу первой серии ежегодных экспедиций АН СССР под руководством минералога Л. А. Кулика в район катастрофы. А карта-схема явилась правдивым первоисточником для составления рабочей программы рекогносцировочных исследований, а затем и поисков самого космического тела:
«В марте 1926 г. мною была предпринята командировка на р, Чуню (правый приток Подкаменной Тунгуски) по заданиям Комитета Содействия Народам Севера. Попутно мною была взята на себя инициатива по проведению целого ряда научно-исследовательских работ на р. Чуне, которая в верхнем течении до сих пор была совершенно не исследована.
Маршрут экспедиции был следующий: от станции Тайшет санным путем до села Кежмы, от Кежмы на р. Подкаменную Тунгуску к устью речки Тэтэрэ, и далее по Подкаменной Тунгуске к устью р. Анавар и, наконец, от р. Анавар по проделанной в 1925 г. дороге на Стрелку (к фактории, рядом с местом слияния рек Северной и Южной Чуни) р. Чуни, куда экспедиция прибыла 11 апреля (1926 г.).
При поездках за последние годы на Ангару мне неоднократно приходилось слышать от крестьян о падении метеорита за Подкаменной Тунгуской, и эти рассказы, часто переполненные неправдоподобными легендами, всё же проливали некоторый свет на возможность поисков упавшего метеорита. Наиболее подробные сведения сообщил И. И. Покровский, который бывал в 1908 и 1909 г.г. на Подкаменной Тунгуске для статистических работ.
К сожалению, статьи А. В. Вознесенского и С. В. Обручева об этом метеорите, помещенные в №1 журнала «Мироведение за август 1925 г. (стр. 25), стали мне известны лишь за несколько дней до написания настоящей статьи. Таким образом, я не имел возможности воспользоваться теми обширными, изложенными в этих материалах, данными, которые оказали бы мне большую помощь в поисках метеорита во время поездки.
Прочитав статью А. В. Вознесенского, я (И. М. Суслов) узнал в ней тот же смысл всех тех рассказов, которые ходят на Ангаре в районе Богучаны-Кежма. Это обстоятельство определённо подтверждает правдивость показаний крестьянами на звон стекол в окнах, сильные удары, похожие на гром, на светлую полосу на небе и т.д.
На устье р. Анавар я встретил чум того самого тунгуса Ильи Потапова (он же Лючеткан), которого расспрашивал С. В. Обручев в 1924 году на р. Тэтэрэ. В семье Лючеткана живёт вдова его брата Акулина, которая вместе со своим покойным мужем пострадала от падения метеорита. Про это событие она рассказывает так:
- Утром, когда все в чуму ещё спали, чум взлетел на воздух, с ним – и люди. Упав на землю, вся семья получила лишь незначительные ушибы, Акулина же и Иван потеряли сознание и от сильного испуга долго не могли понять, что случилось с ними. Когда же сознание к ним вернулось, они увидели горящий кругом лес. Много лесу было повалено. Кругом слышался какой-то шум.
Встреченный мною на Стрелке р. Чуни старик-тунгус, Василий Охчен, живший в момент падения метеорита в чуме Ивана и Акулины, и опрошенный через две недели после Акулины, рассказал то же, что и она. Разница только в том, что Василий проснулся в тот момент, когда сорвало чум и его сильным толчком отбросило в сторону. Сознание он не потерял.
Он рассказывает, что был невероятно сильный продолжительный гром, и земля тряслась, деревья падали, кругом все было застлано дымом и мглой. Вскоре гром стих, ветер прекратился, но лес продолжал гореть. Все отправились на поиски оленей, которые в момент катастрофы разбежались. Многих оленей из стада не оказалось, найти их не смогли.
Чум Акулины, в момент падения метеорита, находился на устье речки Дилюшмы, при впадении в р. Хушму (впадает на самом деле в Чамбу). Лючеткан же в момент катастрофы жил на р. Тэтэрэ и слышал лишь продолжительный гром и сотрясение земли.
Впоследствии, при поисках осенью белки, Лючеткан и Акулина обнаружили на северо-восточном склоне хребта Лакура, вблизи истока речки Макитта, «сухую речку» – глубокую борозду, которая оканчивается большой ямой, заваленной землею. В настоящее время, по их словам, и борозда и яма поросли молодым леском.
На среднем течении р. Аваркитта в момент катастрофы стоял чум детей умершего тунгуса Подыги: Чекарена, Чучанчи и Налеги. Встреченные на Стрелке р. Чуни Чекарен и Чучанча рассказывали, что они были разбужены сильным грохотом. Повсюду слышались удары, сотрясение земли, сильный треск и шум. Страшная буря, от которой трудно было удержаться на ногах, вблизи их чума валила лес. Вдали, по направлению на север, было видно какое-то облако; после они убедились, что это был дым.
Тунгус Андрей Онкоуль, живущий ныне в вершине р. Таймуры, рассказывал, что к северу от хребта Лакура, между реками Кимчу и Хушма, приблизительно на половине, он видел глубокую яму больших размеров, о которой раньше тунгусы ничего не знали. Эта яма также поросла молодым леском.
Целая группа тунгусов сообщила, что в долине р. Чамбе, немного пониже устья р. Хушмы, неожиданно налетевшим откуда-то огнём – спалило сразу 200 оленей у тунгуса из рода Куркагырь Степана Ильича Онкоуль. У него же повалило и совершенно уничтожило лабаз, наполненный турсуками с мукой и домашним скарбом.
Рассказы тунгусов о каком-либо событии вообще требуют всегда большой проверки, а тем более о чем-то сверхъестественном, а в данном случае даже о катастрофе, когда многие из них лишались сознания и были контужены сильным сотрясением воздуха.
Поэтому, пользуясь, случаем сбора на съезде 60 тунгусов, происходившем с 1 по 4 июня 1926 года на Стрелке р. Чуни, мною был произведён официальный опрос всех присутствующих. Этот опрос и даёт чрезвычайно ценные сведения.
Слышались заявления: «палил лес»; «кончал лабазы»; «кончал оленей»; «портил людей» (контузия); «кончал собак»; «валил тайгу»; «лес падал вершинами Нербогачён-ду» (т.е. к Ербогачёну, на северо-восток); «одна большая яма была обнаружена далеко от речки Дилюшмы к северо-востоку, не доходя до вершины южной Чуни, если идти от Дилюшмы»; «принёс с собою болезнь на оленей, особенно царапку (чесотку), чего до появления огня не было».
Рассказы Лючеткана, Акулины, Василия Охчена, Андрея Онкоуля, Чучанчи и Чекарена были подтверждены всеми.
Любопытно отметить, что все они охотно отвечали на вопросы и сами рассказывали о всех подробностях постигшего их несчастья и вместе с тем выразили готовность показать любое место, связанное с падением метеорита. На просьбу начертить карту района катастрофы, они согласились охотно.
Чертил кроки Лючеткан (на съезде) цветными карандашами, а целая группа тунгусов тут же вносила свои коррективы.
Суммируя все рассказы тунгусов о падении метеорита и, сопоставляя их с рельефом местности, по которой мне пришлось проехать через хребты от Подкаменной Тунгуски до р. Чуни (стрелка) и, наконец, по самой Чуне вниз до устья, можно вывести некоторые предположения о направлении падения (см. прилагаемую схематическую карту, перечерченную с тунгусских схем).
9. 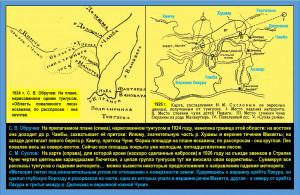
Лес повален по направлению на северо-восток, начиная от северо-восточного склона хребта Лакура, затем по долине р. Чамбе и, наконец, захвачено нижнее течение притоков ее: Хушмы, Укогиткона и Дилюшмы.
На вершине хребта Лакура, ближе к северо-восточному склону, находится глубокая борозда («сухая речка») и в конце её яма. Если принять во внимание две других ямы, о которых говорят тунгусы, то напрашивается такое предположение.
Метеорит летел под незначительным углом по отношению к поверхности земли. Ударившись о вершину хребта Лакура, он сделал глубокую борозду и разорвался на части, одна из которых упала в вершине речки Макитта, другая – к северу от хребта Лакура и третья между р. Дилюшма и вершиной южной Чуни.
Если остановиться на этом предположении, то участок поваленного леса можно объяснить сильным инертным движением воздуха, получившимся от внезапной остановки на хребте Лакура громадного летевшего тела…
На коллаже выше по тексту Константином Кохановым размещены рисунки области поваленного леса северо-западнее фактории Ванавара. Первый рисунок для С. В. Обручева сделал один эвенк на фактории Ванавара (рисунок слева) и второй рисунок для И. М. Суслова сделан Лючетканом на съезде эвенков на фактории Стрелка Чуни, при участии почти всех эвенков, с учётом всех ими сделанных уточнений.
Вспомним уже рассказанное Константином Кохановым выше, что сказал о рисунке со схемой области поваленного леса С. В. Обручев:
На прилагаемом плане (слева), нарисованном тунгусом в 1924 году, нанесена граница этой области: на востоке она доходит до р. Чамбы, захватывает её притоки: Илюму, значительную часть р. Хушмы и верхнее течение Макикты; на западе достигает левого берега р. Кимчу, притока Чуни. Форма площади на плане искажена; по расспросам – она круглая. Лес повален весь на северо-восток. Сейчас вся площадь покрыта уже молодым, пятнадцатилетним лесом.
И если сравнивать рисунок со схемой местности области поваленного леса С. В. Обручева с рисунком И. М. Суслова, то убеждаемся, что у Суслова, при всех его возможностях при наличии властных полномочий, всё-таки схема области поваленного леса оказалась менее точной, хотя содержала, казалось бы более подробные сведения, правда основанные больше на плодах воображения, слухах и хвастовства, кто больше всего пострадал от падения Тунгусского метеорита и потерял сколько тысяч оленей, хотя никогда не имел их больше двух сотен.
И неудивительно, что И. М. Суслов, «проезжая по дороге, помеченной на схеме, через р. Дилюшма и Укогиткон, я поваленного леса не видел; по-видимому, до этого места инертное движение воздуха не дошло.
Что же касается двух других ям, находящихся вдали от Лакуры, то можно предположить, что при разрыве метеорита эти две части вследствие сильного толчка взвились вверх и, описав крутую траекторию, упали один к северу от (хребта) Лакура между р.р. Кимчу и Хушма, а второй – между р.р. Дилюшма и Южная Чуня. Поваленного леса вблизи этих частей тунгусы не замечали.
Если сопоставить эти предположения с выводами А. В. Вознесенского («Мироведение», №1, август 1925 г., стр.34), наметившего сейсмографический толчок, происшедший от падения метеорита 17 июня (ст. стиль) 1908 года, с центром сотрясения в широте 60°16′ и долготе 103°06′, т.е. вблизи истоков Северной и Южной Чуни, то предположения, основанные на показаниях тунгусов, весьма незначительно расходятся с этими выводами.
Астрономических пунктов на Чуне не было, что даёт основание сомневаться в правильности на карте всей вершины Чуни. Маршрутная съёмка всей Чуни, сделанная мною летом 1926 года, показала расстояние от слияния Северной и Южной Чуни (стрелка) до устья Чуни, равное 697 км. Северная же и Южная Чуни, по которым были сделаны заезды, непохожи на тот рисунок, которым они представлены на стовёрстной карте.
Таким образом, вполне возможно, что центр сотрясения в широте 60°16′ и долготе 103°06′ совпадает с вершиной хребта Лакура, находящейся приблизительно в 60-70 км от устья р. Анавар по направлению на ССЗ.
Проверить рассказы тунгусов на месте не удалось, так как границы поваленного леса и места нахождения ям выяснились лишь 1 – 4 июня, когда проезд на оленях, которых было очень мало, оказался бы очень затруднительным, к тому же нужно было спешить спускаться по Чуне, пользуясь высоким горизонтом воды.
(Почти таким же образом рассуждал и С. В. Обручев, когда принял решение не посещать указанную ему эвенками на схеме «область поваленного леса – лето кончалось, а плыть нужно было до устья Подкаменной Тунгуски и потратить десять дней на посещение бурелома, для него была непозволительная роскошь).
Не вдаваясь в оценку этого интересного метеорита, ибо это достаточно сделано упомянутыми авторами, следует отметить, что с поисками его надо поспешить, так как тунгусы-очевидцы происшедшей у них катастрофы иногда откочёвывают окончательно в другие районы; некоторые из них уже умерли; лес, выросший на месте пожарища и на ямах, с каждым годом будет усложнять поиски.
Материалов же для розысков этого метеорита есть достаточно. Организация экспедиции трудностей представлять не будет, так как зимняя дорога от Кежмы до р. Анавар хорошая:
- от р. Анавар до Стрелки Чуни в 1925 году Госторгом сделана также хорошая дорога с постройкой на ней четырех избушек (зимовьев).
- на Стрелке р. Чуни находится фактория Госторга, где экспедиция может всегда получить помещение и в достаточном количестве продукты.
- на устье р. Анавар также есть фактория.
- небольшое количество оленей можно получить на р. Чуне через тунгусские родовые Советы, их там два.
- факторией «Стрелка» управляет А. К. Кокорин, который в течение 25 лет заведовал метеорологическими станциями в Каменке и Кежме. Через него всегда, без особых препятствий, возможно, получить проводников из тунгусов.
17 ноября 1926 года г. Красноярск (Опубликовано: журнал «Мироведение», том 16, №1-4, стр.13-18, М.-Л., 1927).
Конечно такая статья И. М. Суслова, можно сказать с гарантией, что «организация экспедиции трудностей представлять не будет» и то, что «с поисками метеорита надо поспешить», сыграла решающую роль, и Президиум Академии Наук СССР разрешает проведение экспедиции, выделяя для неё необходимые средства.
Первая Тунгусская экспедиция под руководством Л.А. Кулика была разрешена Президиумом Академии наук СССР, и в феврале 1927 г. Л.А. Кулик со своим помощником Гюлихом выехал из Ленинграда.
По дороге к месту работ Л. А. Кулик сделал остановку в Красноярске для встречи с И. М. Сусловым и получил полную информацию по целому ряду вопросов, связанных с предстоящей экспедицией: о подходах к месту падения, расстоянии между населенными пунктами по намеченному пути, стоимости проезда, снабжения продовольствием в пути и на месте работ.
В порядке действенной помощи Л. А. Кулику И. М. Сусловым были даны рекомендательные письма, адресованные местным родовым Советам, заведующему Ванаварской конторой Госторга, а также переводчику Лючеткану.
В дополнение к рекомендательным письмам, И. М. Суслов в письменном виде, дал ещё (для памяти) Л. К. Кулику «Дружеских советы» из 16 пунктов в том числе и такие:
- Если Вам и Гюлиху придется двигаться пешком в центр бурелома, то закажите Лючеткану срочно изготовить две пары тунгусских (широких) лыж и две лёгких нарточки для багажа. Срок такой работы – пять дней;
- не забудьте аптечку. Рассчитывайте, что немало лекарств придется истратить на тунгусов. Они обязательно будут просить Вас лечить их. И Вы пожалеете, что, будучи сыном врача, Вы не стали врачом. Лечение (фельдшерского уровня) и, конечно бесплатно, создаст молву о Вас, как о друге тунгусов;
- обязательно сделайте в Кежме запас мяса, как свежего, так и особенно вяленного, последнее для лета. На дичь в буреломе не рассчитывайте. После лесного пожара 1908 г. там не появился еще корм для тетеревов, рябчиков и глухарей. Дикий олень и сохатый могут встретиться, но надежды на это мало;
- купите на Ангаре сети из конского волоса для горных речек. Они лучше нитяных, и всегда сухие, что удобно при кочевании, особенно вьючном.
12 февраля 1927 года Кулик прибыл на станцию Тайшет, пополнил здесь и упаковал снаряжение и 14 марта 1927 года выехал конным транспортом (ещё по снегу) по тракту на село Дворец, на реке Ангаре, и далее по Ангаре до села Кежмы, куда и прибыл 19 марта 1927 года.
В Кежме он снова пополнил своё снаряжение и запасы продовольствия, получил более точные и подробные сведения о фактории Вановаре и 22 марта 1927 года на трёх подводах выехал из Кежмы.
Вскоре таёжная дорога перешла в наезженную тропу, по которой было трудно передвигаться на санях.
25 марта 1927 года Кулик достиг фактории Вановары, находящейся приблизительно в 200 км к северу от Кежмы и расположенной на правом высоком берегу Подкаменной Тунгуски. Здесь была создана база экспедиции, и Кулик стал готовиться к походу в глубь тайги, в область поваленного леса.
Фактория Вановара представляла в то время маленький посёлок из нескольких жилых домов и подсобных построек. Здесь помещались два приёмочных пункта пушнины от охотников-эвенков, принадлежавшие Госторгу и акционерному обществу «Сырье».
Всё население фактории Ванавара состояло из семей двух заведующих пунктами, семьи рабочего и полуосёдлого эвенка… Лючеткана.
Кулик заключил с Лючетканом соглашение об участии его в экспедиции в качестве проводника…
В своём очерке «За Тунгусским дивом» Л. А. Кулик подробно рассказывает о своих трёх попытках достигнуть области поваленного леса:
«…Немедленно… по приезде была сделана попытка проникнуть в район бурелома верхом на лошадях. Проводником должен был быть тунгус; лошадей я взял у ангарских ямщиков, доставивших фактории казенный груз из Кежмы. Весь расчет был основан на заверении проводника о существовании оленьей тропы, по которой могли пройти наши лошади.
Но первый же десяток километров показал, что эта тропа существовала лишь в начале зимы, а потом была погребена в 60-ти сантиметровой толще снегового покрова; кони по грудь тонули в сыпучем снегу, вьюки сбивались на бок и рвались о сучья и кору деревьев надвинувшейся со всех сторон тайги, караван вяз в частоколе таежных зарослей, ибо не всюду может пройти лошадь там, где скользит легкий олень.
После бесконечных перевьючиваний громоздких мешков с фуражем, измученные, с выбившимися из сил в глубоком снегу лошадьми, вернулись мы на факторию, чтобы искать новых путей и иных средств передвижения.
Был на исходе месяц март. Стояла бодрая, морозная погода, но капли в полдень на карнизах крыш грозили близкой смертью не только умирающей красавице зиме, но и моим надеждам на легкий зимний путь. Приходилось торопиться. Факторцам удалось уговорить нашего прежнего проводника идти опять с нами, а перевезти багаж и довести меня до центра бурелома был договорен ими местный оседлый тунгус, владелец десяти оленей.
В путь тронулись в первых числах апреля. Шли на лыжах, делая 5-7 километров в сутки. Тревожить себя больше тунгус оленевод не пожелал. Он выступил в поход со своей младшей женой, грудным младенцем, старшей дочерью и племянником. Вставали в 10 часов утра, долго пили чай и еще дольше искали оленей; после полудня выступали, а в 3-З1/2 часа дня, и редко позже, становились на ночлег, устраивали юрту и долго-долго пили чай. И так тянулось все это бесконечную неделю.
На третий или четвертый день тропа исчезла, и тунгусам пришлось прорубать её в таежной поросли. Начались стоны и сетования, притворные болезни и требования лечить… «самогоном». Отказ ухудшил взаимоотношения, ибо тунгусы не верили, чтоб русаки ходили в тайгу без этого универсального медикамента.
А между тем мы незаметно вступили в зону бурелома и шли уже по мелкой поросли. Весь крупный лес в горах был повален на землю плотными рядами, в долинах же торчали кверху не только корни выворотков, но и стволы переломанных, в вершине или на средине, как тростник, вековых богатырей тайги.
Вершины сваленных деревьев были обращены к нам: мы шли на север навстречу пронесшемуся здесь два десятка лет тому назад сверх урагану. Прошло еще дня два-три, и тунгусы забастовали: оленевод заявил мне, что путь мой кончен, и что он дальше меня, вернее мой багаж, не повезет.
Дипломатические переговоры привели лишь к тому, что лагерь наш был передвинут еще на один переход вперед и разбит у известной мне по своему географическому положению речушки; этим я устанавливал свою связь с внешним миром на случай бегства тунгусов…».
По отрывку из очерка Кулика «За тунгусским дивом» ничего конкретного о маршруте его экспедиции сказать нельзя, поэтому приходиться довольствоваться, его описанием, сделанным в монографии Е. Л. Кринова «Тунгусский метеорит»:
Кулик снова заключил соглашение, но в этот раз с эвенком Охченом, проживавшим около устья реки Чамбэ, впадающей в Подкаменную Тунгуску:
- Охчен обязался доставить экспедицию всем её снаряжением на оленях с реки Чамбэ на хребет Лакуру;
- По прибытии на Лакуру он должен был в течение четырех дней ознакомить экспедицию с отдельными местами поваленного леса;
- Затем уйти на охотничий промысел, а в конце мая снова прийти на оленях за экспедицией и доставить её на реку Чамбэ, к своей избе;
- Отсюда экспедиция должна была самостоятельно выбраться на факторию.
Таков был план, разработанный Куликом.
8 апреля 1927 года экспедиция в составе Кулика, Гюлиха, Лючеткана с одним возчиком на лошадях выехали из фактории по берегу реки Подкаменной Тунгуски к избе эвенка Охчена, расположенной в 30-35 км от фактории, куда и прибыла к ночи того же дня.
На следующий день (9 апреля), навьючив все снаряжение на оленей, экспедиция по оленьей тропе вышла в тайгу. Через два дня тропа кончилась, впереди предстала непроходимая девственная тайга, пришлось прорубать путь.
В десятке с небольшим километров от избы эвенка Охчена, – писал в своем дневнике Кулик,- вдали, на северо-востоке показался хребет Буркан, расположенный вдоль левого берега реки Чамбэ, при впадении в неё реки Макирты. Направление пути экспедиции все время изменялось с северного на северо-западное.
13 апреля 1927 года экспедиция пересекла реку Макирту и здесь встретила начало сплошного вывала леса. Поваленные деревья лежали вершинами, обращенными к югу, т. е. навстречу пути экспедиции. Кулик записал в своем дневнике: «Северные берега реки Макирты оживлены сопками «чувалами», живописно выделяющимися на фоне неба и тайги своими почти безлесными белоснежными шапками, оголенными метеоритным вихрем 1908 г.»
Отсюда экспедиция направилась на северо-запад, вдоль русла реки Макирты. встречая повсюду на холмах поваленный лес. Вскоре вдали показалась гора с двумя остроконечными вершинами – Шакрама, как ее зовут эвенки, что означает по-русски «сахарная голова».
К этому времени у проводника, эвенка Охчена, появилось стремление повернуть обратно, отказавшись от своего первоначального обязательства доставить экспедицию на хребет Лакуру и сопровождать её по отдельным местам поваленного леса. Он ссылался на недостаток продуктов, на невозможность пополнить свои запасы и на разные другие причины.
После переговоров с эвенком Кулику все же удалось удержать его от возвращения, по крайней мере в течение ближайших нескольких дней, причем Кулику пришлось выделить часть запасов продовольствия для снабжения эвенка с его женой и братом, которые также сопровождали экспедицию.
15 апреля 1927 года Кулик поднялся на гору Шакрама и осмотрел окрестности. Отсюда он совершил экскурсию на хребет Хладного, расположенный к востоку от горы Шакрама и названный так Куликом.
Здесь им была обнаружена южная граница распространения ожога, вызванного взрывом при падении метеорита. С хребта Хладного можно охватить взором значительную территорию во всех направлениях.
Южнее реки Макирты голые места от поваленного леса видны были лишь по склонам отдельных вершин и горок; в долинах же и вообще в защищенных местах лес уцелел.
К западу, на вершинах хребта Лакура, поваленный лес виден отдельными пятнами. Такие же пятна замечались и на хребте Буркан, к юго-востоку, причем в направлении на восток пятна уходили по крайней мере на 20-25 км.
Так как в тайге еще лежал мощный снежный покров, то места с поваленным лесом резко выделялись белоснежными пятнами на общем сером фоне тайги.
Таким образом, вся местность к западу, югу и востоку от хребта Хладного характеризуется вывалом леса на открытых местах, причем поваленные деревья лежат вершинами к югу или юго-востоку. Здесь встречается и молодая поросль леса, в возрасте 20-30 лет. К северу от хребта Хладного, по глазомерной оценке километров на 10-12, почти весь горизонт занят группой белоснежных, оголённых от леса гор.
Этот участок гор, как это можно было различить с хребта Хладного, рассекается руслом ручья Чургима, текущего с севера и впадающего в реку Хушмо.
Находившийся с Куликом эвенок Лючеткан говорил ему, что именно этот район, т. е. за горами на севере, занимал в 1908 г. его родственник, эвенок Василий Ильич Илыошонок (Онкоуль). В этом районе находились и его лабазы, разрушенные падением метеорита, а также паслись олени.
Итак, Кулик достиг той области, о которой стали слагаться чуть ли не легенды, – области поваленного леса, где упал знаменитый Тунгусский метеорит.
Теперь Кулик стремился проникнуть к северу, за те белоснежные горы (от сплошного вывала леса), которые открылись перед ним с хребта Хладного. Первоначальный план проникновения на хребет Лакуру он уже оставил.
Однако эвенки Охчен и Лючеткан наотрез отказались сопровождать экспедицию. Создалось критическое положение. Идти на риск, т. е. остаться вдвоем в тайге за сотню километров от фактории, перед наступлением весеннего половодья и без каких-либо средств к передвижению и перевозке экспедиционного снаряжения, Кулик не мог.
Поэтому для него не было другого выхода, как только вернуться с эвенками на факторию Вановару, а после этого попытаться в сопровождении новых проводников, местных охотников, снова пробраться в область поваленного леса.
Однако в этот свой второй (на самом деле в третий) поход он решил использовать плот для продвижения по разлившимся рекам Чамбэ и Хушмо.
Задержавшись в районе хребта Хладного ещё на несколько дней для засечки приметных пунктов и вершин гор при помощи горного компаса, 19 апреля 1927 года экспедиция повернула обратно к фактории Вановаре, куда и прибыла благополучно 22 апреля 1927 года.
В своем письме, посланном с фактории академику В. И. Вернадскому, Кулик писал:
«…Мы проникли в глубь тайги верст на 100 от фактории Вановары, сплошным буреломом (ни одного взрослого дерева!) прошли верст 20 в направлении с юга на север. Впечатление от этого бурелома исключительное: на всем этом пространстве взрослый лес сметен начисто и параллельно уложен вершинами в общем к югу (эвенки всех заверяли: «вершинами к северо-востоку»)».
Как пишет в своём очерке Леонид Кулик «За тунгусским дивом», вынуждено возвращаясь в Ванавару, «особенной нужды в такой крайней мере… не усматривал», считая, что он «не был ещё прижат к стене: лежал ещё повсюду, хотя уже и мокрый, но всё же снег, до ледохода, хотя речушки уже покрылись водой, оставалось все же ещё недели три. И новый план роился в голове: вернуться в Вановару, сменить свой «экипаж» на новый, русский, закинуть на санях продукты чунским «трактом» к северу и речками с востока проникнуть в заповедный кряж».
… 30 апреля 1927 года, ещё по снегу первая партия экспедиции в составе Кулика и трёх рабочих покинула Вановару и на четырех санях направилась на реку Чамбэ, по дороге из фактории Вановары на факторию Стрелка, т. е. на север. Вслед за первой партией на реку Чамбэ перебралась, и остальная партия с помощником Кулика Гюлихом…
…3 мая 1927 года экспедиция достигла реки Чамбэ и здесь остановилась во временном лагере. Расчет был такой: построить плоты и по вскрывшейся реке Чамбэ отправиться вниз по течению на запад, до реки Хушмо, впадающей в Чамбэ. Затем по реке Хушмо также на плотах проникнуть в область поваленного леса.
… 9 мая 1927 года плоты были готовы, и экспедиция отправилась по реке Чамбэ на двух плотах по намеченному маршруту. Сначала плоты шли без препятствий, но после четвертого километра путь плотам преградило нагромождение льдов. Используя всякий раз освобождавшиеся от льда участки реки, экспедиция мало-помалу продвигалась вперед…
… Наконец, 13 мая 1927 года экспедиция добралась до устья реки Хушмо, пройдя по реке Чамбэ в общей сложности около 40 километров. Река Хушмо оказалась уже свободной от льда. Оставив здесь один плот для сплава по реке Чамбэ при обратном пути, экспедиция построила новый плот и снова на двух плотах отправилась по реке Хушмо, но уже вверх по течению. Плоты пришлось тянуть бечевой, используя для этого имевшуюся лошадь.
20 мая 1927 года около устья реки Укогиткона, впадающей в Хушмо, был встречен первый участок вываленного на вершине холма леса. Поваленные деревья лежали вершинами на юго-восток. Следующий холм также был покрыт поваленным лесом с вершинами, направленными к юго-востоку.
22 мая 1927 года экспедиция подошла к устью реки Ухагитты. Здесь был встречен уже сплошной вывал леса на значительной территории, но вершины деревьев по-прежнему лежали на юго-восток. Поваленные деревья часто преграждали путь, и местами приходилось прорубаться через сплошной валежник, загромождавший реку и ее берега.
25 мая 1927 года Кулик отметил в своем дневнике: «Весь день шли мимо голых гор. Бурелом обожжен. С вершин холмов производились засечки появившихся на горизонте вершин отдельных гор. По поваленному и обожженному здесь лесу поднимается редкая поросль. Направление поваленного леса по-прежнему ориентировано вершинами на юго-восток».
30 мая 1927 года экспедиция достигла устья ручья Чургима, глубокую долину которого наблюдал Кулик с хребта Хладного еще в первый свой выход. Здесь был устроен лагерь № 13, и отсюда Кулик начал обследование северных окрестностей. Совершая ежедневные экскурсии, он прежде всего установил, что к северу от лагеря расположена котловина, окруженная амфитеатром гор. Сюда и был перенесен лагерь экспедиции.
Обходя вершины этих гор, Кулик производил с помощью горного компаса засечки их вершин и других приметных пунктов, а также измерял направление поваленных деревьев. И вот в это время, совсем неожиданно для себя, он установил радиальный характер вывала леса. На какую бы вершину горы вокруг котловины он ни пришел, всюду он встречал деревья лежащими вершинами наружу, а корнями – к котловине.
И в добавление к своему открытию, Леонид Кулик, ещё отмечает, что «…в котловине, наконец, у северо-восточного её участка, обнаружил десятки плоских кратеров-воронок, до нельзя схожих с лунными. Их легче всего было заметить в тундре, обожженной и не успевшей еще восстановить как следует весь свой растительный покров.
Воронки имели самый разнообразный поперечник, но чаще – от 10 до 50 метров; их глубина не превышала в общем 4 метров, а дно было уже затянуто болотным моховым покровом.
Как глубоко ушли метеориты в тундру и горные породы, сказать я не могу: не в силах был я ни обойти всю местность, вспаханную ими, ни приступить к рытью: речь шла уже о том, чтобы благополучно выбраться оттуда. Продуктов оставалось у нас дня на 3-4, а путь лежал не близкий и далеко не триумфальный…».
…Кулик был полон уверенности в том, что он проник на самое место падения метеорита, которое определялось, прежде всего, направлением радиального вывала леса. Более того, он был убежден, что метеорит роями отдельных масс выпал в северо-восточной и северо-западной частях котловины, где и образовал серии воронок…
…Вместе с тем хребет Лакура с его ямами и «сухой речкой», о которых рассказывали эвенки, а также дальние окрестности котловины к северу, северо-востоку и во всей западной стороне остались необследованными. Характер и дальность распространения в этих направлениях вываленного леса остались неизвестными. Обследованной (бегло, вдоль маршрутов экспедиции) оказалась только южная и юго-восточная, а также частично восточная часть области от котловины до самой её границы…
… Вернувшись 24 июня 1927 года на факторию Вановару и построив здесь большую лодку «перевозню», на которую было погружено все снаряжение, экспедиция 30 июня 1927 года покинула факторию и направилась (отплыла) вниз по реке Подкаменной Тунгуске. На реке Енисее экспедиция погрузилась на пароход и направилась в Красноярск, откуда поездом в сентябре 1927 г. вернулась в Ленинград.
В качестве источника: Материалы из монографии Е. Л. Кринова «Тунгусский метеорит» (М.-Л., 1949, «Первая экспедиция 1927 г., выборочно со стр.93-105); http://www.rgo-sib.ru/book/kniga/32.htm.
Читая в интерпретации Евгения Кринова «отчёт Леонида Кулика о его маршрутах до Хребта Хладного и затем по рекам Чамбе и Хушме до ручья Чургима и по нему до «великой котловины», где он обнаружил радиальный вывал тайги и «десятки плоских кратеров-воронок, до нельзя схожих с лунными», то по сделанному им описанию, почти невозможно понять, даже мне (Константину Коханову), ходившему там неоднократно, каким был точно, проделанный Леонидом Куликом, в его героическом одиночном походе, тогда весь путь, потому что, по каким-то непонятным причинам, он часто забывает упомянуть своего помощника Александра Гюлиха.
К счастью для читателей, Е. Л. Кринов в своей монографии «Тунгусский метеорит» (М.-Л., 1949) на фиг.22 привёл «Схематическую визуально-маршрутную карту района падения Тунгусского метеорита»:
10. 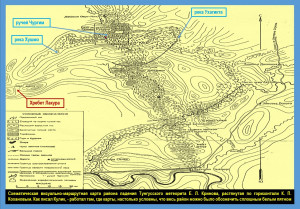
Правда, Константину Коханову пришлось визуально-маршрутную карту Е. Л. Кринова, растянуть по горизонтали для лучшего восприятия района падения Тунгусского метеорита, так как Леонид Кулик сам написал о том, что работал там, где карты настолько условны. Что весь район можно было обозначить сплошным белым пятном.
Если, как пишет геолог Борис Вронский в своей книге «Тропой Кулика» (М., 1968) Леонид Кулик плыл в лодке до Енисея три недели, то значит он туда приплыл примерно 21 июля 1927 года и если к себе в Ленинград вернулся только в сентябре, то явно с возвращением туда, он особенно не торопился…
В своём очерке «За тунгусским дивом», в принципе, что это было действительно так, Кулик пишет в его самом начале:
«Не успел я покинуть чистенькой каюты пришедшего из Енисейска в Красноярск красавца «Коссиора», как добрые и просто знакомые и даже совершенно незнакомые мне сюда засыпали меня ворохом вопросов: «Ну что, как? нашли его? Где, какой он? – большой?» и т. д. и т. п.
Всё это является характернейшим показателем того повышенного интереса, какой красноярцы проявляют к нашумевшему падению крупного метеорита в Тунгуссии, в июне 1908 г.
А потом пришли ко мне «собственные корреспонденты» и просто корреспонденты. А потом т. редактор отрезал мне уже всякие пути к отступлению: «В ближайшие дни Л. А. Кулик поместит в нашей газете ряд очерков, рисующих работу экспедиции и её достижения».
И вот, пришлось взяться за перо… и писать очерк «За тунгусским дивом» до 19 августа 1927 года.
Очерк «За тунгусским дивом» был написан Куликом для красноярских читателей, поэтому он не слишком преувеличивал, обнаруженные им масштабы последствий падения Тунгусского метеорита и даже, можно сказать, точно предсказал, какой популярностью будет в будущем пользоваться открытое им место, с многочисленными большими воронками от его крупных осколков:
«Эта поездка была сплошной поэзией, и я уверен, что наступит время, когда спортивные прогулки туда станут такими же излюбленными, как и на пресловутые (Красноярские) «Столбы» (да простят мне «столбисты» эту дерзость!) Но об этом – в другом месте…
(В СССР к этому всё и шло, но в современной России, интерес к Тунгусскому метеориту в основном сохраняется стараниями уфологов, пока только их фантазиям на тему «Тунгусское НЛО» всегда находится почётное место на многочисленных сайтах Интернета).
…Что же касается до падения нашего метеорита, то в заключение ещё раз могу сказать, что площадь бурелома действительно определяется тысячами квадратных километров; кроме того, её центральная часть однообразно обожжена окружавшим метеорит облаком раскалённых (до тысячи градусов) газов. Сам же метеорит представлял собой рой мелких и крупных тел, из которых те, которые образовали упомянутые выше крупные воронки, должны были иметь вес свыше 130 тонн каждое…».
Возвратившись в 3 сентября 1927 года в Ленинград, Леонид Кулик пишет следующий очерк о своей экспедиции «Где упал Тунгусский метеорит» и публикует его в журнале «Наука и техника», №39, издания «Красной Газеты» 23 сентября 1927 года.
11. 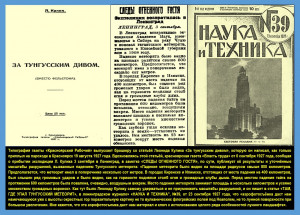
На коллаже со статьями Леонида Кулика и с заметкой о нём, сделан комментарий, в котором рассказано, с чего, по сути, рядовой сотрудник Академии Наук СССР, занимавший в Комитете по метеоритам скромную должность, стал превращаться в известного всем учёного, которому ещё из жалости, за совокупность статей о метеоритах, ещё даже не присвоили звания кандидата наук.
Типография газеты «Красноярский Рабочий» выпускает брошюру со статьёй Леонида Кулика «За тунгусским дивом», которую он написал, как только приплыл на пароходе в Красноярск 19 августа 1927 года.
Вдохновляясь этой статьёй, красноярская газета «Власть труда» от 6 сентября 1927 года, сообщая о прибытии экспедиции Л. Кулика 3 сентября в Ленинград, в заметке «СЛЕДЫ ОГНЕННОГО ГОСТЯ», по сути, публикует её результаты и уточнённые масштабы разрушений, вызванные падением Тунгусского метеорита:
«Падение метеорита было видно на площади радиусом свыше 800 километров. Предполагается, что метеорит имел в поперечнике несколько сот метров. В городах Киренске и Илимске, отстоящих от места падения на 400 километров, был слышен ряд громовых ударов и было видно, как на горизонте поднялся столб огня и громадные клубы дыма. Перед местом падения тайга на протяжении 600 километров была повалена, очевидно, воздушным вихрем. Место падения метеорита занимает площадь в несколько километров и усеяно множеством громадных воронок».
Как тут было Леониду Кулику самому удержаться и не приумножить масштабы разрушений, и он пишет в статье «ТАМ, ГДЕ УПАЛ ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ», в ленинградском журнале» «НАУКА И ТЕХНИКА», №39, от 23 сентября 1927 года, что «аэрофотосъёмка даст нам намечающуюся уже с высоты окрестных гор поразительную картину не то вулканических флегрейских полей под Неаполем, не то лунной поверхности при большом увеличении. Мне кажется, что эта аэрофотосъемка даст нам материал и ключ к истолкованию целого ряда особенностей лунного ландшафта».
Ленинград не Красноярск и масштабы последствий падения Тунгусского метеорита, соответственно, в очерке Леонида Кулика «Где упал Тунгусский метеорит», возрастают многократно и поэтому нуждаются в дальнейшей их полной оценке:
«…Работа моей экспедиции внесла существенные и весьма ценные поправки и обогатила метеоритную литературу новым фактическим материалом.
Тем не менее эта работа носила лишь рекогносцировочный характер: бедная средствами и силами экспедиция не могла произвести ни раскопок, ни детального осмотра всей площади падения и полной съемки ее, ни определения астрономических пунктов; а между тем работать приходилось в таком краю, где все элементы наших географических карт являются настолько условными, что правильнее было бы, пожалуй, весь этот район обозначать пока сплошным белым полем.
Достаточно сказать, например, что для всей р. Чуни и верхнего течения Подкаменной Тунгуски имеется всего лишь один астрономический пункт (фактория Таимба), и едва ли тысячеверстные, уже заснятые маршрутной съемкой, хвосты этих рек весьма произвольно болтаются в пространстве; понятен поэтому вопрос одного красноярского картографа, обращенный ко мне, как к эксперту, побывавшему на местах: как поступить ему, при составлении 20-ти и 80-ти верстной карты, хотя бы с той же рекою Чуней, – «маленько растянуть ее или же сжать гармоникой». Итак, определение здесь астрономических пунктов является вопиющей необходимостью не только для моей экспедиции, желающей к чему-нибудь привязать произведенную ею съёмку.
Необходима здесь и другая вещь. Воронки рассеяны на площади во много километров в поперечнике. Обойти их все, заснять на план и выяснить закономерности падения, равно как зафиксировать и общую картину грандиознейшего, не имеющего себе равных, бурелома и следы интерференции воздушных волн, – экспедиции на этот раз не удалось, вследствие исключительной трудности передвижения в заваленной мертвым лесом гористой местности, пересеченной тундрой и болотами.
Детальная топографическая съемка здесь является делом и трудным, долгим и дорогим. С другой стороны, наиболее отвечающей требованиям производящегося исследования и предстоящих раскопок, да и вообще наиболее рациональной в данном случае является фотографическая съемка с гидроаэроплана; с последнего — потому, что единственными доступными для посадки местами в этих краях являются достаточно широкие здесь реки и озера.
И ещё: аэрофотосъемка даст нам намечающуюся уже с высоты окрестных гор поразительную картину не то вулканических флегрейских полей под Неаполем, не то лунной поверхности при большом увеличении. Мне кажется, что эта аэрофотосъемка даст нам материал и ключ к истолкованию целого ряда особенностей лунного ландшафта…».
Хотя Леонид Кулик в 1927 году отказался от первоначального плана проникновения на хребет Лакура для поиска «Сухой речки» и сосредоточился в последующих своих экспедициях только на районе обнаруженного им радиального вывала и обнаруженных там воронках, одну из которых (Сусловскую) он даже осушил, и не смотря, что нашёл на её дне пень, продолжил в ней буровые работы, другие исследователи мест, связанных в показаниях очевидцев с падением Тунгусского метеорита о «сухой речке» помнили всегда и даже предпринимали попытки её обнаружить.
Из статьи В. М. Кувшинникова «Обследование депрессий в районе Чавидокона и верховьев Макикты» (http://www.rgo-sib.ru/book/articles/2.htm), можно узнать даже некоторые подробности, связанные с поисками «Сухой речки»:
«Образование, получившее наименование «Сухая речка», интересовало исследователей Тунгусского метеорита как место возможного падения его обломков. Действительно, по описаниям эвенков (Суслов, 1927), это длинная борозда на склоне хребта Лакура, вроде русла высохшей речки или ручья, заканчивающаяся большой ямой, где земля перемешана с деревьями так, что у иных засыпаны вершины и торчат из земли корни.
В упомянутой статье Суслова указывалось, что здесь метеорит ударился о землю и раскололся. Один обломок остался на месте, другой рикошетом отлетел в район г. Стойкович, а третий – на Южную Чуню.
Ввиду большой неопределенности в указаниях на местонахождение «Сухой речки» неоднократные попытки обнаружить этот объект успеха не имели. Возвышенность в 15 км к западу от г. Шахормы, которую, как оказалось впоследствии, имели в виду эвенки (а не географический Лакурский хребет), две наши группы обследовали в 1960 г., но объекта не обнаружили (Кувшинников, Колобкова, 1963). Рикошет метеорита от Лакурского хребта с разлетом его частей на десятки километров абсурден с физической точки зрения, а потому интерес к поискам «Сухой речки» со временем почти исчез…».
В 1972 году Константин Коханов, тоже предпринял попытку обнаружить «Сухую речку» на хребте Лакура, или хотя бы большую яму, сравнимую с Аризонским кратером», но видимо пересёк Лакурский хребет не в том месте. А вот коллеги В. М. Кувшинникова в тот год даже Лакурский хребет не нашли. Поэтому руководитель КСЭ (тогда ещё не академик) Николай Васильев на Заимке Кулика, во время итоговой «конференции», предложил даже создать «комиссию» с председателем Кохановым с целью выяснения, где находится этот хребет.
12. 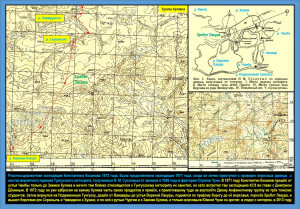
Комментарий к коллажу с рекогносцировочной экспедицией Константина Коханова на Лакурский хребет:
Рекогносцировочная экспедиция Константина Коханова 1972 года, была продолжением экспедиции 1971 года, когда он лично приступил к проверке опросных данных о местах вероятного падения Тунгусского метеорита, полученных И. М. Сусловым от эвенков в 1926 году в фактории Стрелка Чуни.
В 1971 году Константин Коханов прошёл от устья Чамбы только до Заимки Кулика и ничего там близко относящегося к Тунгусскому метеориту не заметил, но зато встретил там экспедицию КСЭ во главе с Дмитрием Дёминым.
В 1972 году он уже забросил на заимку Кулика часть своих продуктов и привёл, к прилетевшему туда на вертолёте Джону Анфиногенову с женой, группу из трёх томских студентов. Затем вернулся на Подкаменную Тунгуску, дошёл от Ванавары до устья Верхней Лакуры, поднялся по правому берегу до её верховья, пересёк Хребет Лакура, и вышел берегами рек Сераныль и Чавидакон к Хушме, и по ней к ручью Чургим и к Заимки Кулика, и только верховьев Южной Чуни он достиг, в лодке с мотором, с проводником из Стрелки Чуни, Валерием Зарубиным, в 2013 году, хотя уже знал, что и там ничего для него интересного нет.
Мне могут задать вопрос, – почему я ограничился только рассмотрением одной экспедиции Леонида Кулика 1927 года? Отвечу, – что исключительно только потому, чтобы показать, как инструментально (приборами), теоретически и практически определялось место взрыва или падения Тунгусского метеорита и по показаниям очевидцев корректировали траекторию его полёта.
Поэтому, если читатель обратил внимание, на то, что С. В. Обручев, И. М. Суслов и Л. А. Кулик, попадая в село Кежма, во время своих экспедиций или поездок, ни разу не упомянули, что Тунгусский метеорит пролетел над этим селом и только, как И. М. Суслов может быть интересовались, но только в каком направлении и откуда очевидцы там видели белый, серо-дымный, огненный или другой раскраски и расцветки след от пролетавшего Тунгусского метеорита.
О чём это говорит? Только о том, что пролетевший над Кежмой Тунгусский метеорит, уводил их в сторону от места его взрыва или падения, уже установленного А. В. Вознесенским по результатам обработки ему известных показаний очевидцев и полученных С. В. Обручевым сведениям от эвенков, со сделанным для него рисунком со схемой, где находится большая область поваленного леса между реками Чамба и Кимчу. К тому же им помог убедиться в правильности определения района падения Тунгусского метеорита своим опросом эвенков, на их съезде на фактории Стрелка Чуни, Председатель комитета содействия народам Севера И. М. Суслов, также получивших от эвенков рисунок со схемой большой области поваленного, которая перекрывала тот же самый район, как на рисунке со схемой, полученным С. В. Обручевым.
С такими «надёжными» источниками информации, Леонид Кулик мог и сам и без помощи проводников-эвенков, найти эту большую область поваленного леса, но на всякий случай решил не рисковать, но рискнуть всё-таки пришлось, так как от проводников-эвенков оказалось мало толку и только было много потеряно впустую времени и выделенных на экспедицию Академией Наук, денежных средств.
В статье Н.В. Васильева «Проблема Тунгусского метеорита на рубеже столетий» всё-таки, как мне показалось наметилось среди исследователей Проблемы Тунгусского метеорита, в их головах, некоторое просветление, что «траектория Тунгусского метеорита» на основании показаний очевидцев на Ангаре плохо согласуется с траекторией, определяемой на основании анализа векторной структуры леса, в так называемом эпицентре взрыва «Тунгусского космического тела ТКТ)», так сейчас в основном стараются подчеркнуть, что «оно» может быть вовсе и не метеорит:
«…Опубликование в 1981 г. каталога показаний очевидцев Тунгусского метеорита [Васильев с соавторами, 1981] создало условия для оценки ситуации в целом. В результате выяснилось, что траектория, определенная на основании показаний очевидцев на Ангаре и соответствующая, скорее всего, варианту, предложенному Е.Л. Криновым, плохо согласуется с траекторией, определяемой на основании анализа векторной структуры повала леса и тем более поля лучистого ожога.
В поисках выхода из этих противоречий использовались различные подходы. Нередко, отдавая приоритет прямым физическим доказательствам, исследователи, в сущности, игнорировали показания очевидцев, как малонадежный материал.
С этим можно было бы согласиться, если бы речь шла о единичных свидетельствах, а не о массивах из сотен независимых наблюдений, при обработке которых в действие вступают те же законы статистики, что и при анализе любой другой совокупности случайных событий.
Другие исследователи предпринимали попытки совместить ангарские показания, нижнетунгусские свидетельства и геометрию зон разрушений.
Немалые усилия предпринимались, например, И.Т. Зоткиным и А.Н. Чигориным [1980, 1991]. Полученные при этом результаты гораздо расплывчатее, а допуски больше, чем те, которые имеет место при раздельном анализе показаний обеих групп очевидцев [Кринов, 1949; Эпиктетова, 1976,1990; Коненкин, 1967].
Второй вариант: Ф.Ю. Зигель [1983] высказал предположение о маневре, допуская, что Тунгусское космическое тело двигалось первоначально по траектории, близкой к рассчитанной Е.Л. Криновым. Затем, описав дугу, вышло на междуречье Нижней и Подкаменной Тунгуски на восточную траекторию, по которой и следовало вплоть до момента «взрыва» [Журавлев, Зигель, 1994].
Источник: https://природаэвенкии.рф/content/проблема-тунгусского-метеорита-на-рубеже-столетий
13. 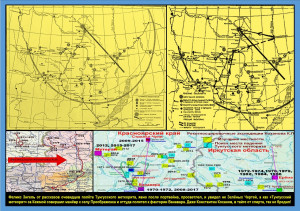
Комментарий на коллаже по поводу «манёвра Тунгусского метеорита или Тунгусского космического тела» с указанием на картах 20-ти рекогносцировочных экспедиций Константина Коханова с 1970 по 1986 год и с 2008 по 2017 год в Красноярском крае и в Иркутской области:
Можно ли серьезно обсуждать с «научными работниками» то, что они сами плохо себе представляют, но с умным видом стараются всем доказать.
Вероятно, Феликс Зигель от рассказов очевидцев полёта Тунгусского метеорита и распитого с их детьми ящика портвейна, просветлел, и увидел не Зелёных Чертей, а как «Тунгусский метеорит» за Кежмой совершил манёвр к селу Преображенка и оттуда полетел к фактории Ванавара.
Даже Константин Коханов, в тайге от спирта, так не бредил! Но по западной, южной и восточной траектории, вероятного полёта Тунгусского метеорита, всё-таки ходил и даже с одним очевидцем падения Тунгусского метеорита в селе Ерёма на Нижней Тунгуске разговаривал.
Причём не я нашёл очевидца падения Тунгусского метеорита Василия Семёновича Фаркова, а он меня в 1973 году, когда я вернулся с устья реки Алтыб (левой приток реки Большая Ерёма) в село Ерёму. Оказывается, его уже дважды опрашивали участники томской Комплексной Самодеятельной Экспедиции (КСЭ), а я, как исследователь Проблемы Тунгусского метеорита, из Москвы, даже не смог подумать, что в этом селе кто-то есть, кто сам видел полёт Тунгусского метеорита.
Когда пролетал Тунгусский метеорит, Василию Фаркову было 10 лет, он стоял с дядей на берегу Нижней Тунгуски, а метеорит пролетел над рекой от него с правой стороны и высоко в небе.
На мой вопрос, – а не может ли он показать мне то место, где в 1908 году, стоял на берегу реки? – его ответ меня не только удивил, но даже обескуражил. Оказывается, тогда село Ерёма находилось за «хребтиком из двух горок», которые 50 лет назад были смыты рекой во время весеннего паводка, и вместо горок, под обрывистом берегом, образовался песочный пляж.
Река явно выпрямила своё русло и где стоял Василий Фарков, он уже точно не знал, как и то, каким образом тогда река огибала эти горки.
Я не стал уточнять подробности из того, что было интересного в тот день, когда он видел полёт Тунгусского метеорита, лишь попросил его, если он что-то вспомнит из событий того дня, написать мне в письме в Москву. И я действительно получил о Василия Фаркова даже два письма, первое – с «историей ерёминского края» на шести листах, и второе – с просьбой прислать ему гитару или балалайку, чтобы радовать по праздникам, игрой на этих инструментах, своих детей и внуков.
Гитару в начале 1970-х годов в Москве купить было можно, но сложно, зато балалайку можно было купить легко, а вот упаковать её и обшить материей ящик было намного сложнее, так как отправить балалайку в Ерёму можно было только авиапочтой, и на почте могли принять посылку, только обшитую тканью.
Из статьи Константин Коханова: «Где нужно было искать Тунгусский метеорит?»
Марсианская бомбардировка:
Как уже отмечалось Константином Кохановым в статье («Где нужно было искать Тунгусский метеорит?»), он после ознакомления со статьёй «Следы космической бомбардировки», об упавшем на Марс метеорите в журнале ВПВ («Вселенная, Пространство, Время» №4/59, 2009), внёс в свою, запланированную на 2009 год «очередную» рекогносцировочную экспедицию в верховья реки Южной Чуни, существенные изменения.
Во-первых, потому что, как в статье отмечалось, «траектория упавшего на Марс метеорита исходно была направлена с юго-востока на северо-запад и наклонена к поверхности планеты под сравнительно небольшим углом, чем-то, напоминая одну из расчётных траекторий Тунгусского метеорита».
Во-вторых, также в статье отмечалось, что «метеорит размером около 200 метров распался в марсианской атмосфере на сотни обломков разных размеров» и на опубликованной в статье фотографии было видно, что «самые крупные обломки метеорита образовали три, идущие следом друг за другом, больших кратера, при этом один из них имел диаметр около километра. А около сотни мелких обломков, которые достигли поверхности раньше крупных, образовали цепочки из множества небольших кратеров».
14. 
Комментарий к коллажу о следах «космической бомбардировки» марсианской поверхности:
«Траектория упавшего на Марс метеорита была направлена с юго-востока на северо-запад и наклонена к его поверхности планеты под сравнительно небольшим углом, чем-то, напоминая одну из расчётных траекторий Тунгусского метеорита».
Экспедицию 2009 года на Южную Чуню, Константин Коханов назвал «мечтой уфолога», когда на озере Восточный Амут, включил навигатор «Магеллан», и сразу «вызвал» на озере шторм, который чуть не опрокинул его лодку.
Оказалось, что в этом не было ничего сверхъестественного, просто его проводник Валерий Зарубин забыл предупредить Константина Коханова, что после 10-ти часов утра, в этих местах, весной начинает «дуть» ветер. В результате измерение глубины озера, в контрольных точках, Константину Коханову, пришлось перенести на вечер.
А на озере «Амут», невдалеке от озера была обнаружена странная мутация осины и в самом озере не было кроме щук никакой другой рыбы. Поэтому щуки весом до двух-трёх килограмм имели головы, со слов проводника Валерия Зарубина, почти в два раза больше туловища.
Константину Коханову хотелось увидеть такую щуку, но в сеть попалась щука весом более трёх килограмм, нормального вида, правда внутри у неё оказались водоросли и еще не переваренный щурёнок, который был с описанной выше непропорциональной головой.
Ещё в 1925 году А.В. Вознесенский считал, что на месте падения метеорита должен быть кратер, наподобие Аризонского и вокруг него, на таких же расстояниях, т. е. до 2 – 3 км в окружности, масса обломков, отделившихся от главного ядра ещё до падения или при самом падении.
Поэтому на описание наблюдений за полётом Тунгусского метеорита очевидцами, опубликованных в газете «Красноярец» в №153 от 13 июля 1908года, в разделе «По губернии» (стр.1-2) в статье собственного корреспондента П-хова, Константин Коханов посмотрел несколько иначе и сравнил их с описанием последствий «марсианской метеоритной бомбардировки»:
«С. Кежемское. 17-го, в здешнем районе замечено было необычайное атмосферическое явление.
В 7 час. 43 мин. утра пронесся шум как бы от сильного ветра. Непосредственно за этим раздался страшный удар, сопровождаемый подземным толчком, от которого буквально сотряслись здания, причем получилось впечатление, как будто бы по зданию был сделан сильный удар каким-нибудь огромным- бревном или тяжелым камнем.
За первым ударом последовал второй, такой же силы и третий. Затем – промежуток времени между первым и третьим ударами сопровождался необыкновенным подземным гулом, похожим на звук от рельс, по которым будто бы проходил единовременно десяток поездов.
А потом в течение 5-6 минут происходила точь-в-точь артиллерийская стрельба: последовало около 50-60 ударов через короткие и почти одинаковые промежутки времени. Постепенно удары становились к концу слабее.
Через 1,5-2-минутный перерыв после окончания сплошной «пальбы» раздалось еще один за другим шесть ударов наподобие отдаленных пушечных выстрелов, но все же отчетливо слышных и ощущаемых сотрясением земли…».
Описание «марсианской метеоритной бомбардировки», практически ничем не отличалось от того, что, хотя не видели очевидцы, но прекрасно слышали и почувствовали сами:
«…Самые крупные обломки метеорита образовали три, идущие следом друг за другом, больших кратера, при этом один из них имел диаметр около километра. А около сотни мелких обломков, которые достигли поверхности раньше крупных, образовали цепочки из множества небольших кратеров».
Поэтому Константин Коханов сделал предположение, что возможно тоже самое произошло и при падении Тунгусского метеорита на Землю, с той лишь разницей, что Тунгусский метеорит, мог быть по размерам в два-три раза больше марсианского, и разрушения его ядра стало происходить, естественно, на большей высоте и последующие друг за другом три «страшных» удара с сильным сотрясением земли, могли быть результатом падения на землю его трёх крупных обломков, артиллерийская стрельба, могла быть результатом падения на Землю сравнительно «небольших обломков», размером от 5 до 10 метров, а непрерывный гул между сильными ударами, «похожий на звук от рельс, по котором будто проходил десяток поездов» – был результатом на падения на Землю «мелких обломков», размером менее одного метра.
Шесть «отдалённых пушечных выстрелов», после 1,5-2 – минутного окончания, Константин Коханов, тогда объяснить не мог, но после падения Челябинского метеорита и двух его экспедиций (2013 и 2016 года) под траекторией полёта этого космического тела, навели его на мысль, что после взрыва или разрушения Тунгусского метеорита, в атмосфере земли, часть его осколков, могли сохранить, если не первоначальную скорость, но значительно большую, чем его крупные осколки и соответственно упасть на землю позднее его крупных частей.
Константину Коханову только оставалось определить по топографическим картам и снимкам из космоса земной поверхности, эти самые метеоритные кратеры, которые могли стать озёрами диаметром около километра, а может быть и больше, расположенные на одной линии по широте, долготе или по какому-то азимуту предполагаемой траектории полёта Тунгусского метеорита.
А так как запланированная им экспедиция было в верховья Южной Чуни, то и особое внимание он уделил именно бассейну этой реки. Внимание Константина Коханова привлекли два озёра Амут и Восточный Амут, но третьего озера на одной линии с ними, он, на том же расстоянии в западном и в восточном направлении от них, не обнаружил.
Правда в западном направлении на спутниковой карте он нашёл «подозрительное место», напоминающее чем-то метеоритный кратер, «нужного ему диаметра», и поэтому особенно не расстроился отсутствием третьего озера.
В 2009 году с проводником из Стрелки Чуни Петровым Альбертом Константиновичем, Константин Коханов смог только выйти к озеру Амут. Озеро Амут, диаметром около 1,3 км, Константин Коханов обошёл вокруг без проводника. Радиоактивный фон в окрестностях озера оказался в норме, но на одном из прилегающих к нему участков, была обнаружена им необычная мутация осины. Какого-либо стока воды из озера он тогда не обнаружил.
Посетить в 2009 году озеро Восточный Амут ему не удалось. Впадающий недалёко от устья реки Амут, его левый приток вброд перейти было нельзя, вплавь не хотелось ещё потому, что идти до озера нужно было около 8 километров.
Проводник Альберт Петров в этих местах не охотился, поэтому рассчитывать на его помощь он не мог. Вернувшись в стрелку Чуни, Константин Коханов познакомился с охотником Валерием Николаевичем Зарубиным, охотничьи угодья которого, включали в себя интересующие его озёра.
В 2010 году уже в качестве проводника, Валерий Зарубин, довёл Константина Коханова до озера Восточный Амут, а затем посетил с ним также озеро Амут.
Озеро Восточный Амут имело диаметр почти в два раза меньший, около 0,7 км, но было интереснее озера Амут тем, что имело воронкообразную форму, хотя в тот год и меньшую глубину, немногим более 18 метров. Измеренная Кохановым глубина озера Амут в том году, была примерно 25 метров.
Почему Константин Коханов называет приблизительные цифры глубин этих озёр? Это не потому, что у его эхолота была большая погрешность измерений, а потому что измерения приходилось проводить сидя в одноместной резиновой лодке, при ветреной погоде.
Лодка качалось, её сносило ветром, приходилось по несколько раз корректировать точки измерений, по навигатору «Магеллан», и делать в разных точках поверхности озёр по несколько измерений его глубины.
После сделанных измерений глубины озера Восточный Амут, обхода в одиночку его вокруг и изучения, обнаруженных рядом с этим озером, напоминающих метеоритные воронки, мелких озёр, проводник Коханова, обратил внимание, что он очень долго что-то ищет на топографических и спутниковых картах, и поинтересовался у него, что он на этих картах так долго не может найти.
Узнав, что Коханов ищет третье озеро на одной линии с озерами Амут и Восточный Амут, Валерий Зарубин сказал, что такое озеро есть, но только восточнее Восточного Амута километров на двадцать. Константин Коханов сразу же нашёл это озеро, носившее название Чачо.
Оставалось только посетить это последнее озеро в бассейне реки Северная Чуня. Договорившись в Стрелке Чуни с охотником, на чьих охотничьих угодьях было озеро Чачо, Константин Коханов решил посетить это озеро с ним в 2011 году. За месяц до начала экспедиции Коханова его новый проводник отказался его сопровождать на озеро Чачо, сославшись на семейные обстоятельства…
…Поэтому Константин Коханов договорился с охотником Владимиром Медведевым (Чимирканом) о путешествии на озеро Чачо в 2012 году, но прилетев в Ванавару, он отыскал там охотников, из тех, кто был на озере Чачо и узнал от них, что озеро мелководное, глубиной около 3 – 5 метров, но несмотря на это, отменять своей экспедиции туда не стал.
…Это была уже 15-я рекогносцировочная экспедиция Константина Коханова, и ему очень не хотелось, чтобы она опять окончилась без конкретных результатов, хотя бы потому, что возраст у него уже был таким, что с рюкзаком под тридцать килограмм пройти за день по тайге и болотам 45-50 километров, было просто нереально. Возможности своего изрядно потрёпанного «в боях и походах» организма, он смог оценить ещё в 2010 году….
… 16 мая 2012 года Константин Коханов вылетел на вертолёте в Стрелку Чуни, где неожиданно узнал, что в его распоряжении только два часа, чтобы собраться и отправиться в верховья Северной Чуни.
Оказывается, его новый проводник Владимир Медведев, с которым Валерий Зарубин оговорил условия участия в моей экспедиции, должен ещё попутно забросить в те же места своего тестя Ивана Карнаухова, который прилетел вместе с ним в Стрелку Чуни на вертолёте. Чувствовалось, что Константин Коханов нарушил планы Ивана Карнаухова больше, чем он его…
… 18 мая 2012 года Коханов с Медведевым поплыл вниз по реке к геологическому профилю. Там он, при помощи навигатора «Магеллан» определил его координаты, а затем уточнил и его направление на карте. В общей сложности прошёл он с Володей Медведевым по профилю около километра, уточняя его координаты, ещё в нескольких контрольных точках. Завтра решили идти по нему до «креста» – пересечения двух профилей и уже по второму профилю до озера Чачо.
Смущало только то, что расстояние по всем прикидкам до озера Чачо, было более 30 километров, и то, что идти придётся с полной нагрузкой. Когда вернулись, то во время обеда разговорились о поисках «Тунгусского метеорита».
Слушая рассказ Константина Коханова о том, как, веря местным жителям, что они знают, где лежат явно «небесные камни», члены многих экспедиций, кто хотел проверить их происхождение, не только не находили этих камней, но даже места, где их якобы кто-то видел.
Володя Медведев в конце рассказа Константина Коханова, вдруг оживился и неожиданно сказал:
«Кстати у меня недалеко отсюда, в бору, рядом с моей «буранкой» лежит какой-то странный белый камень».
Константин Коханов сразу прервал свой рассказ и поинтересовался, – а как выглядит этот камень? Сколько он примерно весит и какой он величины?
Володя показал руками приблизительный размер камня (0,5 х 0,4 метра) и сделал некоторые уточнения:
Первое, что он сказал, это то, что камень неправильной формы с преобладанием белого цвета и второе, что он со своим товарищем, с трудом отколол от него небольшой кусок, который долгое время лежал у него в зимовье. В то же время, когда он захотел перевернуть камень, то тот оказался таким тяжёлым, что он смог справиться с ним только с помощью своего товарища. Вес камня был, явно, не менее 80 килограмм.
- И далеко находится от этого зимовья, твой камень? – спросил Константин Коханов Володю Медведева, ожидая, что расстояние до него окажется, как до «Чёрта на куличиках». Ответ был для него неожиданным – всего 17-18 километров от устья реки Килюрингна, в верховьях одного из её притоков.
После того, как Константин Коханов узнал, что Володин камень находится так близко, у него сразу пропал интерес идти на озеро Чачо, особенно, при сложившихся обстоятельствах идти к нему с практически предельным для себя весом рюкзака.
Поэтому он предложил Володе перенести поход на озеро Чачо на 2013 год, притом не пешком, а на моей или на его лодке, поднявшись к озеру Чачо по реке Чачокан.
Видимо предложение Константина Коханова идти к его камню, больше устроило Володю, чем перспектива идти к озеру Чачо по проложенным геологами в его направлении и в его сторону профилям.
В верховья Килюрингны они решили отправиться утром, на следующий день, 19 мая 2012 года. Для этого вечером спустились вниз по реке 12,5 км до зимовья, расположенном на левом берегу Северной Чуни в 2,5 километрах от устья её правого притока реки Килюрингны и переночевали в этом зимовье.
… 19 мая 2012 года, утром поплыли к устью Килюрингны. Причалили рядом с «тропой–буранкой» (дорогой для снегохода «Буран»). Далее шли вдоль левого берега Кюлирингны, периодически записывая координаты мест остановок и пройденное расстояние…
…20.05.2012 года. До камня 3,3 км шли большей частью по болоту, по воде, которая была выше колена, проложив в болотной растительности, что-то похожее на дорогу или канал.
За болотом был бор большей частью с подстилкой из ягеля. Камень лежал на такой же подстилке из ягеля, и было видно, что камень здесь никогда не падал, и было ясно, что его сюда просто кто-то и зачем-то привёз.
Но кому нужно было «тащить» этот большой белый булыжник, весом более 80 килограмм сюда и для каких целей?
И теперь глядя на этот найденный Володей камень, Константин Коханов ощупывал его поверхность, с помощью Володи перевернул его на другой бок, сфотографировал со всех сторон, даже оставленное место скола, сделанного Володей, постарался отдельно сфотографировать.
Найдя потом на камне выступ, с еле заметными признаками трещины, он вставил туда зубило и стал бить по нему обухом охотничьего топора. Острые мелкие осколки камня полетели ему в лицо, но камень начал поддаваться только после не менее десяти ударов, а потом от него отвалились два больших куска породы.
Константин Коханов положил эти два куска породы сверху на камень и ещё раз сфотографировал их уже на камне, и само образовавшееся на камне углубление. Далее было произведено несколько снимков местности и самих участников экспедиции у этого камня.
Камень затем Коханов с Медведевым прислонили к стволу молодой лиственницы, и пошли назад…
…Обратный путь тоже нельзя бы назвать более лёгким, – хаикта (в основном берёзовый кустарник), болота, ручьи, переправы через речки, Константина Коханова просто добили окончательно. Когда до Северной Чуни оставалось около 6 километров, он сказал проводнику Володе Медведеву, чтобы он шёл дальше вперёд один, переночевал в своём зимовье, и утром приехал к устью Килюрингны, чтобы забрать его оттуда и отвезти на свою охотничью базу, а он сам не будет строить из себя героя и переночует в тайге в своей палатке…
15. 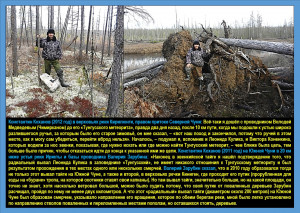
Комментарии к коллажу о рекогносцировочных экспедициях Константина Коханова
Константин Коханов (2012 год) в верховьях реки Кирилюнги, правом притоке Северной Чуни:
«Всё-таки я дошёл с проводником Володей Медведевым (Чимирканом) до его «Тунгусского метеорита», правда всего два дня назад, после 10 км пути, когда мы подошли к устью широко разлившегося ручья, за которым было его старое зимовьё, он мне сказал, – «вот наш поход и закончился, потому что ручей в этом месте, как я могу сам убедиться, перейти вброд нельзя».
Началось, – подумал я, вспомнив и Леонида Кулика, и Виктора Коненкина, которых водили за нос эвенки, показывая, где нужно искать или где можно найти Тунгусский метеорит, – чем ближе была цель, тем больше было причин, чтобы отказаться идти до конца к указанной ими же цели.
Но Константин Коханов был к подобным ситуациям был готов и поэтому просто сказал проводнику Владимиру Медведеву, что действительно перейти этот ручей в брод, в его устье или рядом с ним, сейчас нельзя, но если пройти по его берегу 1 – 2 километра, то там уже перейти реку вброд будет наверняка можно. Что тут ещё сказать, ручей вброд они тогда перешли, пройдя по его берегу всего метров триста-четыреста.
Константин Коханов (2011 год) на Южной Чуни в 20 км ниже устья реки Ирикты и базы проводника Валерия Зарубина:
«Наконец в эвенкийской тайге я нашёл подтверждение того, что радиальный вывал Леонида Кулика в заповеднике «Тунгусский», не имеет никакого отношения к Тунгусскому метеориту и был результатом прохождения в тех местах одного или нескольких смерчей.
Проводник Валерий Зарубин сказал, что в 2010 году образовался тогда не только этот «радиальный» вывал тайги на Южной Чуне, а также и второй, в верховьях речки Киниген, где проходит его путик (прорубленная для езды на «буране» тропа, вдоль которой охотники ставят свои капканы).
Но там вывал тайги, значительно больше, но на какой площади, он точно не знает, хотя насколько ветровал большой, можно было судить потому, что свой путик от поваленных деревьев Зарубин расчищал, пройдя по нему не менее двух километров.
А что этот «радиальный» вывал тайги (диаметром около 200 метров) на Южной Чуне был образован смерчем, указывало направление его вращения, которое по обеим берегам реки, мной было легко установлено по направлению стволов, поваленных и переломленных местами пополам, но оставшихся стоять, деревьев».
30 июня 2022 года.