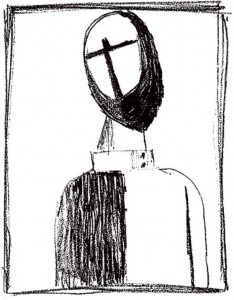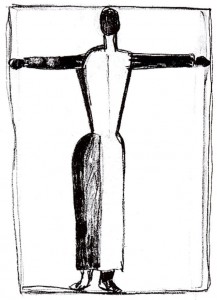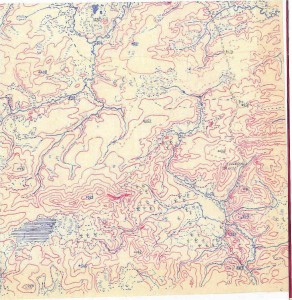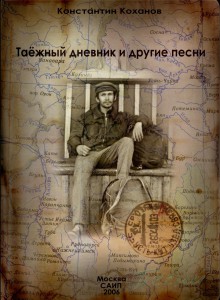И вот наступил день 80-ой годовщины Великой Октябрьской Революции 1917 года
7 ноября 1997 года. Просыпаюсь ночью и вижу, что Коля Ясенков сидит на кровати, обхватив руками голову, затем медленно встаёт с кровати и выходит в коридор. Там он обращается за помощью к медсестрам. Дежурные медсёстры должны сидеть за столом, но эти, улёгшись валетом, спят на стульях за стойкой дежурного врача:
- Девушки, прощу Вас, вызовите дежурного врача, очень сильно болит голова, снотворное не действует, не могу уснуть.
Одна из медсёстёр приподнимает голову, непонимающе, что ему нужно, смотрит на Колю и когда у неё в голове, начинает что-то проясняться отвечает, позёвывая:
- Хорошо, присядьте на стул, я сейчас ему позвоню.
Коля отходит от медсестры к противоположной стене коридора и, присаживаясь на стул, видит, что медсестра, вместо того чтобы встать и начать звонить врачу, опускает голову на сиденье стула и продолжает досматривать прерванный каким-то назойливым больным сон. Коля хотел сразу же подняться со стула, чтобы снова попросить медсестру вызвать врача, но не может этого сделать от сильной головной боли, от которой уже начинает темнеть в глазах.
Как только боль немного утихла, Коля снова медленно, чтобы боль не так сильно разламывала голову, подходит к спящим медсестрам:
- Девушки, ещё раз прошу Вас, вызовите дежурного врача. Та же медсестра поднимает голову и с раздражением в голосе отвечает, что она уже вызвала врача, и он скоро подойдёт. Коля, еле превозмогая боль в голове, недоумевает:
- Когда же Вы его вызвали, если я отсюда никуда не отходил, а Вы сами никуда не звонили?
- Медсестре, ничего уже не остаётся, как подняться и вызывать по телефону врача.
Приходит заспанный и раздражённый, что его посмели разбудить, дежурный врач и, не глядя на Колю, спрашивает у медсестры, – что у него? – как будто он не человек, а собака, скулящая без поводка на шее.
- Да вот, этот больной на голову, говорит, что у него сильно болит голова, и он никак не может уснуть.
- Так дай ему каких-нибудь таблеток и пусть идёт к себе в палату, – распоряжается дежурный врач, и даже не посмотрев в сторону Коли, уходит куда-то по коридору и каждый его шаг, кажется громче марширующей на плацу роты, словно молотком бьёт по Колиной голове.
Медсестра даёт Коле каких-то таблеток и снова ложится на стулья. Вторая медсестра даже не пошевелилась, насколько крепко сковал её сон, который бывает только у медперсонала, проявляющего полное безразличие к людям, которым они обязаны оказывать помощь, а не ждать, когда она им уже не понадобится совсем.
Я обеспокоенный долгим отсутствием Коли, хотел уже подняться, чтобы выйти в коридор, но тут он, наконец, появился, сел на кровать и снова обхватил голову руками.
- Коля, тебе очень плохо? – спрашиваю я, – может мне сходить, вызвать дежурного врача?
- Бесполезно, – отвечает Коля голосом человека, еле сдерживающего слёзы, – дежурному врачу сейчас не до нас, как и всем в этой больнице – мы все им только мешаем.
Чувствовалось, что Коле, нужно было выговориться, так как это, видимо, действовало на уменьшение головной боли лучше лекарств, данных ему отчего-то и непонятно зачем.
От него я узнал о том, как он вызывал дежурного врача, и дал ему, видимо, единственно правильный совет, из практики выхода, казалось бы, из самых безнадёжных экстремальных обстоятельств:
- Коля, может случиться, ещё не раз, как и сегодня, когда тебе никто не захочет помочь или даже не догадается прийти сразу на помощь. – Обстоятельства, могут быть ещё хуже. И вот, когда ты начнёшь, задыхаться, или тебя словно парализует так, что ты даже не сможешь кого-то позвать на помощь, то всё-таки есть единственное средство помочь себе и в этом случае – это перестать дышать самому. Задержать насколько это будет возможно дыхание, а потом, сделав глубокий выдох, делать с паузами короткие вдохи и продолжительные выдохи, потому что, чем меньше ты вдыхаешь воздуха, тем больше твой организм, усваивая из него кислорода, мобилизует сил, чтобы сохранить свою жизнедеятельность и будет способствовать сохранить твою жизнь.
Вечером предпраздничного дня Николаю Ясенкову было особенно плохо. Лечащего нас врача почему-то не было. Дежурные врачи, вероятно из других отделений, один за другим до 22 часов, попеременно, то на левой, то на правой руке, измеряли у него давление и все в один голос говорили , что у него оно очень низкое или пониженное – 80/60. Один дежурный врач, уже находясь в сильном подпитии, даже сказал, что у него сейчас даже меньше восьмидесяти.
- А сколько всё-таки? Шестьдесят восемь или семьдесят два на пятьдесят три, – под смех больных в палате поинтересовался я, на что врач, окинув меня, совершенно ничего не соображающим взглядом, ответил:
- «Шмесят смель на сят сесть!» – и сделав это героическое усилие, выговорить двузначные числа, поспешил выйти из палаты «танцующей» походкой изрядно взявшего на грудь человека, покручивая рукой трубку с грушей от тонометра, словно ища урну или место, куда её выбросить.
Но самым оригинальным оказался дежурный врач в праздничный день 7 ноября 1997 года, переименованный с 1996 года Борисом Ельциным в «День согласия и примирения», хотя вся страна отмечала в этот год 80-летие Великой Октябрьской Революции». Он не нашел ничего умнее, как посоветовать Николая Ясенкову, для поднятия давления, принять 150 грамм водки:
- Так, что имей это в виду, когда к тебе сегодня придёт жена! – сказал ему после измерения давления врач и, пошатываясь, даже сильнее чем вчерашний его коллега, вышел из палаты.
Коля, видимо, не догадался, на что намекал ему врач и поэтому, после его ухода, решил уточнить у меня, то, что так он до конца тогда недопонял:
- Константин, я что-то не понял, что я должен иметь в виду?
- Коля, да тут и понимать нечего – просто он намекнул тебе, позвонить жене, и сказать, чтобы, кроме всего прочего, она не забыла принести бутылку водки, которую ты с ним раздавишь, чтобы поправить своё здоровьё.
Коля в ответ, махая рукой, словно воспринимая мои слова за шутку, всем своим видом даёт понять, что не может в это поверить:
- Ну, ты скажешь!
- Да, нет Коля, я не шучу – это серьёзно. Вскоре сам в этом убедишься.
То, что это было действительно так, Коля убедился часа через два, когда дежурный врач уже в третий раз поинтересовался у него, – приходила ли его навещать жена. Было смешно смотреть на Колю, как он потом старался спрятаться за чьей-нибудь кроватью в палате, когда приходил этот дежурный врач, чтобы только поинтересоваться, где Ясенков.
В итоге я не выдержал, и сказал этому дежурному врачу, что мы сами волнуемся, и уже начинаем бояться, – не умер ли он по пути в туалет:
- Доктор, Вы уж посмотрите, а то нам лечащий врач, посоветовал не волноваться и сильно не переживать, пожалеть сначала себя, а потом уже жалеть других.
Больше этот врач к нам в палату не заходил, поэтому Коля мог спокойно пообщаться с женой, которая пришла навестить его вместе детьми, при этом, разумеется, не упоминая о «лекарстве, которое ему порекомендовал сегодня дежурный врач.
У Коли были проблемы не только со здоровьем, но и проблемы в семье. Жена работала, дочь училась, а сын, уволенный по сокращению штатов, не мог найти работу.
Когда Коля меня представил своим родным, я посоветовал Колиному сыну, если он не боится тяжёлой и грязной работы устроиться работать электромеханикам по лифтам рядом с домом. То, что он не имеет специальности, это не так важно, так как обучение будет проходить во время работы и после аттестации через год на право самостоятельной работы, он сможет получать не плохую зарплату.
Кроме этого, я сказал ему, что в Мослифте, не трудно получить должность прораба, так как каждому там пока ещё предоставляется возможность продолжить обучение в вечернем техникуме или на вечернем отделении МИСИ на факультетах по выбранной им специальности. И хотя у меня было мало уверенности в том, воспользуется ли Колин сын моим советом, но всё что зависело от меня, чтобы помочь его сыну, я всё-таки сделал.
Во время разговора с Колиным сыном, я, случайно обернувшись, увидел, как Коля Ясенков, стараясь чтобы не заметила его жена, засовывал яблоко в карман куртки дочери. К слову сказать, что когда жена мне приносила фрукты, я всегда старался угостить ими Николая. Николай пробовал отказываться, но я настаивал, и ему приходилось их брать:
- Сам, если не захочешь съесть, так можешь отдать их любой медсестре, глядишь, хотя бы одна не будет смотреть на тебя, как на врага народа, – шутил я, уплетая какой-нибудь фрукт, намекая тем самым Николаю последовать моему примеру и хотя бы этим, как-то скрасить свою больничную жизнь.
После ухода родственников Николая, пришла моя жена, как обещала, с дочерью Ирой и первым делом поинтересовалась, где мой сосед слева.
- Борю перевели в другую палату, – не успел сказать я, как в палату вошёл новый больной и направился к пустующей кровати.
- Видишь Таня, – комментировал происходящее я жене, – здесь, как на конвейере, только успевают перестилать постели.
Как я и заказывал, жена с дочерью принесли мне пирожки с капустой и фрукты. Поблагодарив за пирожки, – на вопрос что принести в следующий раз, – я попросил жену, если будет у неё время, спечь и принести мне «шарлотку»…
После ухода жены с дочерью, я познакомился с новым соседом. Новенького звали Сергеем, а его фамилию в течение нескольких дней, не знаю, как это точнее выразить поприличней, интерпретировали, словно подбирали прозвище все, без исключения, медсестры.
Серёжа даже ходил к старшей медсестре с просьбой, чтобы правильно записали его фамилию в журнале. Фамилию исправили, но видно таким почерком, что она вообще, даже отдаленно, не напоминала его родную фамилию – Волошинов.
Кульминацией всего было то, что одна медсестра прочитала его фамилию, видимо плохо соображая, что не всё, написанное на заборе, следует читать вслух. Когда, поняв, что вызвала этим взрыв смеха, она невозмутимо ответила, – ну и что здесь такого, если так и написано, – Ман-да-во-ши-нов.
Сергей Волошинов оказался фанатом «Русского лото», настолько, что присутствовал в числе активных зрителей во время нескольких тиражных розыгрышей, которые регулярно показывали по телевизору на канале «Россия». Явно очень боготворил ведущего этой популярной телеигры Михаила Борисовича Борисова, потому что, рассказывая мне об имевшихся у него с ним близких отношениях, особо подчеркнул:
- Мне даже Михаил Борисович, один раз во время тиража пожал руку пожал.
Сказано это им было не без гордости и с сожалением, что он не сможет принять личное участие в очередном тираже.
Правда, у него сохранялась надежда, что жена, не забудет сегодня принести переносной черно-белый телевизор, чтобы, хотя бы здесь в больнице, он мог попытать счастье 9 ноября 1997 года, находясь с телестудией в прямом эфире, стать счастливым обладателем крупного выигрыша. Жена, к его счастью, не забыла принести телевизор и заодно несколько билетов очередного тиража «Русское лото».
Благодаря телевизору, мы оказались в курсе самых последних городских событий. Посмотрели, как прошёл на Красной площади первый торжественный марш ветеранов, из 250-ти участников уже легендарного парада 7 ноября 1941 года.
Но кроме праздничных мероприятий, увиденных на экране телевизора в этот день, мы стали свидетелями, как бурно отметила 80-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, находившая над нами, на 4 этаже, мужская палата терапевтического отделения. Это мало походило на торжества, достойные нового названия революционного праздника, как «День согласия и примирения», судя по той драке и грохоту опрокидываемой больничной мебели, в сопровождении отборного мата и каких-то не членораздельных воплей.
Неудивительно, что после того, как к двум часам ночи, всё стихло, и наступила, как в фильме «Весёлые ребята» «мёртвая тишина», всё палата третьего кардиологического отделения, моментально погрузилась в глубокий и, могло показаться, даже в беспробудный сон.
8 ноября 1997 года. Первые два дежурных врача, которые периодически заходили в палату, хотя и были не в пример тем, другим, в предпраздничный и в праздничный день, трезвы, осматривая Колю Ясенкова, также объясняли причины его головных болей, очень низким давлением. А третий врач даже порекомендовал ему, для того чтобы поднять давление, пить кофе и крепко заваренный чай.
Коля последовал этому совету, но чем больше он пил кофе и чай, тем сильнее становились головные боли.
- Ольховцев, Шолохов, Волошинов – уколы, – говорит, вошедшая в палату медсестра, и всаживает каждому шприц, как штык в задницу на всю иголку.
Ко всему притерпевшийся Шолохов, при этой экзекуции широко раскрывший от боли глаза, потом сказал, что ему ещё такой боли испытывать не приходилось. Скрюченные артритом, непослушные пальцы Ольховцева не смогли плотно, после укола удержать ватку, и он не видит, с трудом приподнимая трусы, как толстой струёй по ягодицам потекла кровь.
- Медсестра, – кричу я, – смотрите у него сильно идёт кровь!
Остановленная моим криком у входной двери медсестра, ставит с явной неохотой на стол рядом с умывальником поднос со шприцами, которых на нём не меньше полсотни и возвращается к Ольховцеву. Потом достаёт их кармана медицинского белого халата клочок ваты и, подоткнув его под палец Ольховцева, поверх уже пропитанного насквозь клочка ваты, ещё имеет наглость возмутиться, что опять вся перепачкалась кровью.
На лице медсестры ни сострадания, ни жалости, одна только дикая злоба, что её заставили ещё что-то сделать, что ей делать неприятно, противно и никогда не хотелось делать совсем. Схватив поднос со шприцами со стола, она чуть ли не выбегает из палаты, словно чувствуя, что ей опять придётся идти останавливать у Ольховцева кровь, после того, как сама небрежно, воткнула в его задницу, иголку шприца.
Кровь у Ольховцева продолжает сочиться через вату и Шолохов, встав с постели, говорит ему, чтобы он не натягивал трусы, пока он её не вытрет.
Шолохов замешкался, не зная, чем можно было бы быстро вытереть кровь и тогда я отрываю полтора метра туалетной бумаги и предлагаю воспользоваться хотя бы таким «полотенцем».
Телицын, который, казалось, ничему в жизни никогда не удивлялся и до этого безучастными глазами смотревший, как медсестра издевалась над больными, и тот на этот раз не выдержал и, возмущаясь, отметил:
- И, как такие девки, – одним словом, – бляди, – могут работать медсёстрами?
Коля Ясенков, словно заступаясь, за медсестру сразу же возразил ему, – а где она найдёт себе другую такую же работу, где можно, вообще ничего не уметь и не хотеть делать, и ещё получать за это зарплату?
Я тоже принял участие в этом разговоре, напомнив всем, что медсестра зашла с подносом, на котором были шприцы явно не только для одной палаты нашего кардиологического отделения:
- Я даже подумал, а не проиграла ли она другим медсёстрам в карты, кому сегодня ходить по палатам и делать всем больным уколы. Начать, видно, пришлось с нашей палаты, – а тут Волошинов с Ольховцевым и Шолоховым смеются, смотря что-то по портативному телевизору, как будто заодно и над ней, и мало того, ещё рядом с ними Коханов с Ясенковым, красную икру жрут и даже Писеев, как обычно, не стонет.
Как тут не озвереть и не показать себя, чтобы всем было не до смеха, и чтобы все сразу поняли, что шприц в её руках – это такое же оружие пролетариата, как и булыжник, вырванный из мостовой и запущенный в голову стоящего на площади городового.
9 ноября 1997 года. Вчерашняя медсестра, опять же с полным подносом заправленных шприцев, наконец, добралась и до моей задницы, и уже чуть было не всадила мне шприц с такой же лёгкостью, как кирасир свою пику в грудь янычара, но, взглянув на листок лежавший под шприцем, увидела на нём фамилию Ольховцева.
- Чуть не перепутала? – невозмутимо сказала она, но Вам бы Коханов, это ни как не повредило, только на пользу.
- А Ольховцему, предназначенный для меня укол, также бы пошёл только на пользу? – поинтересовался я, – хорошо понимая, что медсестра или соврёт, или просто промолчит.
- А с чего Вы взяли, что предназначенный Вам укол, я бы стала ему делать? Хотя и ему он бы тоже никого вреда здоровью не нанёс.
- Вероятно и пользы, как лекарство – тоже? – хочу получить я ответ, но медсестра с брезгливой усмешкой поднимает поднос со шприцами, и нет, чтобы заняться Волошиным направляется к противоположному ряду кроватей к Ольховцеву.
Старик и так еле передвигает ноги, но его всё равно без конца гоняют в процедурную, причём не все медсёстры, а определённая смена. Эта смена намного гуманней, приходит делать процедуры больным сама, хотя тоже не особенно перетруждает себя работой. Иногда даже, мне начинает казаться, что вынужденное и показное сочувствие к больным медицинского персонала этой больницы, выглядит даже иногда хуже полного равнодушия и хамства со стороны некоторых с командными голосами медсестёр.
К середине дня 9 ноября Николай уже стонал, и мне пришлось звать медсестру и просить, чтобы прислали не просто дежурного врача-терапевта, а кардиолога, если такой ещё есть в этой больнице.
К нашему удивлению, пришёл совсем молодой врач. В палате всегда было достаточно шумно, а врач, явно нервничал, несколько раз перепроверив у Николая давление. Затем он отложил в сторону тонометр и стал проверять у него пульс, сначала на левой, а потом на правой руке. И вдруг, неожиданно для всех нас, врач крикнул:
- Молчать! Всем замолчать! – и в наступившей тишине бросив взгляд на двухлитровую банку с крепко заваренным чаем на тумбочке, закричал на Николая:
- Ты, что совсем с ума сошёл, у тебя же и так уже никуда не годные кровеносные сосуды, и потолок твоего верхнего давления не больше ста, а ты уже нагнал его своим чифиром почти до ста тридцати?
Коля к тому времени уже явно ничего не соображал, так что мне опять пришлось за него вступиться, причём так, чего этот врач никак не мог ожидать от больного в палате:
- Ну, что вы кричите на него? Один ваш коллега, пьяный в жопу, порекомендовал ему выпить 150 грамм водки, другой же, но только в трезвом состоянии мудак, порекомендовал пить, как можно больше кофе и крепкого чая, а теперь Вы, вместо того, чтобы ему действительно чем-то помочь, начинаете читать мораль!
Врач, судя по всему, нашёл бы, что мне ответить, чтобы защитить «честь и достоинство» своих коллег, но тут к нему подошли ещё несколько больных и попросили объяснить, почему в больнице нет дежурных врачей, которые умеют правильно измерять давление у человека.
Врач сразу начал оправдываться, что больной Ясенков, должен сам говорить врачам, что у него настолько плохие кровеносные сосуды, что правильно измерить у него давление при помощи тонометра нельзя и определить его точно можно только по пульсу.
Конечно, этого молодого врача, нужно только было поблагодарить, а заодно и Президента РФ Бориса Ельцина. Не сведи Борис Ельцин двухдневное празднование «победы октября» к одному дню «согласия и примирения», то выходные дни растянулись бы с трёх до четырёх дней, и Николай Ясенков, тогда точно не имел бы ни малейшего шанса, дождаться начала первого после праздников рабочего дня, чтобы, наконец, получить квалифицированную помощь.
После ухода врача пришла жена, принесла «шарлотку» и целый пакет фруктов. Потом ознакомилась по моим записям с результатами измеренного врачами за эти дни моего давления. С 4-го по 9-е ноября было в среднем 135/80, и только 8–го ноября был скачок верхнего давления до 160-ти. Температура до 7-го числа поднималась до 37,2 градуса, но в последние два дня была в норме.
Почти сразу после ухода жены в палату быстро заходит молодой человек, держа в одной руке небольшую картонную коробку, а в другой – большую сумку и обращаясь сразу ко всем, кто был в палате, лежачим и ходящим больным, делает очень «важное» для всех сообщение:
- Наша компания…, – больные пропускают мимо ушей её название, не понимания, какое этой компании до них дело, – и поэтому Ольховцев, просит его не продолжать, потому что здесь ни у кого, всё равно, нет денег.
Молодой человек, словно не понимая смысла данного ему совета, просит его не перебивать и начинает сначала, свою прерванную этой репликой, речь:
- Наша компания желает Вам здоровья и в честь предстоящего юбилея Вячеслава Зайцева, дарит Вам всем эти мельхиоровые десертные наборы стоимостью 200 тысяч рублей. Вам требуется только оплатить доставку стоимостью в 50 тысяч рублей нашими уже ставшими деревянными рублями.
Услышав столь выгодное предложение, больной Шолохов встрепенулся, и, отложив в сторону газету, приподнимается на кровати. Люда, дочь больного Писеева, тоже оживилась и, подойдя поближе к молодому человеку, поинтересовалась, – а это действительно мельхиор?
Проходивший в это время мимо них, накануне поступивший в палату больной, занявший кровать Шапки, не останавливаясь, и только бросив беглый взгляд на предложенный по выгодной цене товар, даёт оценку его благородного происхождения:
- Да, какой это мельхиор, по всему видно, что это электролизное покрытие, пару раз помоешь, и оно всё облезет.
Люда, покрутив в руке ложечку, возвращает её молодому человеку, а Шолохов снова приняв удобное положение на кровати, продолжил чтение газеты.
И лишь Ольховцев, еле сдерживая смех, напоминает представителю «мельхиорной» компании, – вот видите, молодой человек, я Вас предупреждал, что Вы зря теряете время, а Вы меня не послушались?
- Ничего, – говорит, не теряющий оптимизма молодой человек, – главное в моём деле не продажа, а реклама товара, – и выходит из палаты с гордо поднятой головой.
После ухода из палаты молодого человека, Сергей Волошинов поворачивается на кровати лицом ко мне и говорит:
- Костя я думаю, что Ольховцеву, не нужно было так сразу говорить человеку, что у него поехала крыша? Нужно было его сначала выслушать, а потом уже сказать, что у нас нет денег!
По телевизору, в передачах новостей, несколько раз говорили и показывали разрешённый мэрией митинг в Останкино любителей говорить и выступать от имени всего русского народа. Благо нашёлся повод, потребовать от властей запретить сегодня показ на канале НТВ фильма «Последнее искушение Христа».
В нашей палате даже некоторые подумали, – а не закрыли ли на ремонт заведение Кащенко? – особенно, когда услышали заявления некоторых митингующих, что показ этого фильма расколет общество, семьи и может привести к гражданской войне.
Особенно много злобы было в речах служителей церкви и тех, кто причислят себя к истинно православным людям.
Правда, русский народ, никогда веру в Бога, не отожествлял с верой в святость служителей культа. Отсюда «поп толоконный лоб» с его лицемерием любить ближнего и любую божью тварь, как в сатирическом стихотворении: «у попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса, он её убил». Да ещё, вместо того, чтобы лишь утешать людские души, постоянное маниакальное стремление церкви пресекать любое инакомыслие и запугивание страшным судом за любое переосмысливание священного писания. И мало того, считая страшным грехом, даже чтение книг неугодных церкви авторов и тем более просмотр художественных фильмов, поставленных на основе библейских сказаний в любой интерпретации отличной от официально принятой церковной доктрины.
У нас с Сергеем Волошинов, даже не было мысли смотреть фильм «Последнее искушение Христа», но после того, какой мы наслушались «критики» в адрес этого фильма, то теперь уже, конечно, не могли отказать себе этого удовольствия, не смотря на поздний час начала трансляции этого фильма.
Правда, часов в восемь вечера просмотру этого фильма постаралась помешать старшая медсестра, которую мы с Сергеем увидели впервые за всё время нашего пребывания в больнице, даже не подозревая, что есть что-то или кто-то, пострашнее наших неулыбчивых и вечно чем-то раздражённых медсестёр.
Влетев в палату, она сразу начала наводить в ней порядок. Почти у каждого больного, что-то было не так, что сильно нарушало больничный режим. Когда она добралась до нас с Волошиновым, не обращавших на неё особого внимания и смотревших, что-то по телевизору, то она в ультимативной форме потребовала сразу же выключить телевизор, чтобы его работа не мешала другим больным спокойно отдыхать, после предписанных им процедур.
Сергей выключил телевизор, а я поинтересовался у этой истеричной особы в белом больничном халате, – с чего это она так завелась, как будто прибежала с митинга в Останкино:
- Поменьше по митингам нужно бегать и следить, чтобы соблюдался больничный режим не только одними больными, но и сам медицинский персонал, чтобы по праздникам не пьянствовал.
- Где я была не Ваше дело и не мне Вам указывать, кто и как должен соблюдать больничный режим. – А будете мне хамить, быстро Вас выпишу из больницы, за нарушение больничного режима. – Только попробуйте, ещё вечером включить телевизор!
Но тут уж, еле себя, сдерживая, чтобы не перейти на мат, я потребовал от старшей медсестры объяснить, где она была сама или та, которая её должна была замещать 7 ноября 1997 года:
– Так, где же Вы всё-таки были, когда Колю Ясенкова чуть не угробили больничные врачи, а медсёстры, нет, чтобы оказать ему помощь, спали на рабочем месте и только после вторичного обращения вызвали дежурного врача, который даже не стал его осматривать, распорядившись дать ему каких-нибудь таблеток? – Это, не говоря уже о том, где были Вы и те, кто должен следить за тем, как должен соблюдаться больничный режим во время драки в терапевтическом отделении, которая продолжалась почти до двух часов ночи и шум от которой, должны были слышать даже в соседних корпусах больницы?
Медсестра хотела выдать что-то такое, эдакое, на что способны только продавцы винных отделов, перед обступившими прилавок не совсем трезвыми покупателями, но подошедшие к нашим кроватям Ясенков и Ольховцев, тоже попросили старшую медсестру ответить и на их вопросы, когда же, наконец, медсёстры перестанут путать шприцы и лекарства.
Старшая медсестра, почувствовав, что переборщила со своими угрозами, сказала, что сейчас во всём разберётся, но что касается соблюдения больничного режима в нашей палате, то за этим впредь, она будет следить лично. И, уходя из палаты, всё-таки последнее слово старшая медсестра, оставила за собой, сказав мне, что разговор со мной и с врачами обо мне, она ещё продолжит, но только в другом месте.
Больше в этот день старшая медсестра в нашу палату не заходила, а мы с Сергеем Волошиновым, уточнив по расписанию телепередач, когда начало фильма на канале НТВ, в 21 час посмотрели на нём программу «Итоги», а затем и сам фильм, который шёл около трёх часов и закончился почти в час ночи.
Фильм по содержанию был близок к тексту Евангелия, но имел определённую авторскую трактовку в представлении личности Иисуса Христа, как нерешительного и сомневающегося обыкновенного человека. Само по себе вялотекущее повествование фильма, который показывался в столь поздний час, тянуло в сон. И как мы с Сергеем, не отгоняли от себя сон, он всё-таки оказывался сильнее, и пусть не на продолжительное время, но неоднократно прерывал просмотр фильма. Хотя просыпаясь, мы быстро убеждались, что за время, нашего кратковременного сна, по ходу фильма, в жизни Иисуса Христа, мало, что изменялось. И главное, что примерно за два часа просмотра, в фильме не было показано ничего такого, что нам самим было бы неизвестно.
То, что фильм был запрещён только за преувеличенное значение в жизни Иисуса Христа Иуды, поверить было трудно, как и найти, и определить то, что так напугало и вызвало скандал в клерикальных кругах, тоже было непонятно.
Скорее всего, основная масса телезрителей России, могла выключить свои телевизоры значительно раньше, чем стали уже думать мы, не смотря на дополнительную рекламу этого фильма, которая прозвучала во время митинга в Останкино, и выражалась в требовании запретить его показ.
Возможно по замыслу Никоса Казандзакиса, автора одноимённого с фильмом романа, у него была своя философская трактовка Евангелия, в стремлении внушить читателям, что Иисус Христос был не просто плотником, а единственным в Иудее, кто изготавливал по заказу римлян кресты, на которых они распинали преступников. И распятию Христа, было дано в некотором роде совсем другое толкование, не просто, как мученическая смерть на каком-то кресте, а на одном из тех крестов, что были плодами его ремесла.
Смотря фильм, я сначала подумал, что из-за тех крестов, которые изготавливал Христос и потом помогал римлянам устанавливать на Голгофе, Его стали посещать голоса и видения, но оказалось, что это только была почва для того, чтобы сделать из Иуды героя, вопреки библейской истории, где ему отведено место предателя.
В результате, почти в течение часа Иуда в фильме выглядит, если не учителем, так наставником Христа, который постоянно осуждает и поучает Его, словно какой-то ангел-хранитель и тот избавляется от его опеки, только когда уходит в пустыню и, заняв место в середине начертанного там круга, борется с соблазнами Сатаны.
Всё остальное в фильме показано достаточно схематично и близко к каноническому тексту Евангелия. Странствия, чудеса, воскрешение Лазаря с натуралистическими подробностями и его вторичная его смерть от руки убийцы, какого-то особого впечатления не производили.
Вход в Иерусалим, изгнание торгующих их храма, тайная вечеря и предательство Иуды, – всё это мне представлялось совсем не так, как в то время, когда я сам читал Библию, и воображение подсказывало мне совсем другие картины и главное, вызывало совсем другие чувства.
Считать или воспринимать предательство Иуды, как подвиг, конечно, мог себе позволить такой известный всему миру американский режиссёр, как Мартин Скорсезе, но переубедить, тех, кто в это действительно никогда не поверит, его попытка была явно наивной затеей.
Когда уже стало казаться, что показанный в фильме библейский сюжет близился к завершению и смерть Иисуса Христа, распятого на кресте, и Его чудесное воскрешение станут последними аккордами известной всем драмы, но всё, на самом деле, оказалось далеко не так.
Американский режиссёр растянул эти последние мгновения в жизни Иисуса Христа, ещё почти на час, словно давая понять Дьяволу, что тот рано бросил свои бессмысленные затеи Его искушения, предпринятые Им, во время Его сорокадневного поста в пустыне, куда Он отправился после своего крещения.
Целью режиссёра, видимо, было желание показать людям, что Дьявол мог предстать в то время перед Христом в образе ангела-спасителя, посланного Ему самим Богом, чтобы сказать, в чём Он заблуждался, и в чём Его было истинное предназначение, отсюда и название фильма, как и одноимённого с ним романа «Последнее искушение Христа».
Давно видно Дьявол не имел в своей свите, таких талантливых добровольных помощников и толкователей Евангелия, но это был ещё не повод, чтобы кому-то запрещать смотреть этот фильм, только потому, что он якобы мог что-то изменить в сознание людей и как-то повлиять на их веру в Бога.
Кто верил в Бога, тот всегда будет в Его и Ему верить, а тот, кто сомневается во всём и ничему не верит, и смотреть этот фильм было не зачем – так оно в итоге и оказалось.
Можно было ещё понять, зачем режиссёру понадобилось, показывать, как в помутившемся на мгновение сознании Христа, возникло видение, сидящего под Ним ангела-хранителя, которого Он принимает за посланника Бога, сказавшего Ему, что он не Мессия и что его ждёт счастливая семейная жизнь, но зачем ему понадобилось эту семейную жизнь усложнять – понять всё-таки было трудно.
Когда Христос соглашается с тем, что Он не Мессия, ангел снимает Его с креста, медленно вытаскивая вбитые в руки и ноги гвозди, и выводит сквозь присутствующую при Его казни толпу, в живописную долину, где он встречает, идущую к Нему навстречу, в свадебном наряде Марию Магдалину.
Конечно, как в любом голливудском фильме, после свадьбы, в том числе и Христа, никак было нельзя обойтись без постельной сцены, правда, без тех пикантных подробностей, которые были показаны раньше, во время посещения Христом Марии Магдалины в её доме приёмов.
Тогда она, за полупрозрачной ширмой, в порядке живой очереди, удовлетворяла похоть, своих многочисленных клиентов, а Христос, который перед уходом в пустыню, приходил к ней просить прощения, за то, что она по Его вине стала проституткой, всё это время пропускал их вперёд. При этом Он не мог не видеть, как она возбуждала, сидящих с ним рядом мужчин, изгибами безупречной фигуры обнажённого тела, но, войдя к ней, после ухода последнего посетителя и отказавшись разделить с ней любовное ложе или остаться в качестве гостя, Он так и не смог тогда получить от неё прощения.
Видимо режиссёру (как и автору книги), не столько хотелось сделать сюжет своих творений близким к тексту Евангелия, сколько приблизить его к жанру обычного любовного романа. Поэтому Христос, выбрав себе земную жизнь, чувствуя себя виноватым перед Марией Магдалиной, ни как не мог на ней не жениться.
В фильме у них рождаются дети и, казалось бы, они должны были бы встретить старость вместе и «Последнее искушение Христа» можно было закончить, так же, как и закончился фильм, когда Христос стряхивает с себя сон и с улыбкой на лице умирает распятым на кресте.
Но, вероятно, понимая, что некоторые верующие католики, которым даже в грёзах Христа, Мария Магдалина в качестве Его жены, могла бы показаться не парой, сюжет семейной жизни Христа режиссёром (и автором романа) драматизируется смертью Марии Магдалины.
После смерти Марии Христос берёт в жены сестру спасённого им Лазаря и уже вместе с ней проходит Его долгая, ни чем не примечательная, жизнь, которая только один раз омрачняется встречей с апостолом Павлом (Савлом). Он хочет обличить его во лжи, потому что тот рассказывает в своих проповедях о том, как Его римляне распяли на кресте. Апостол Павел даёт понять Ему, что теперь уже не имеет значения, был ли он распят на кресте, но народу всё равно нужно в это верить.
И только, когда к Христу перед смертью приходят состарившиеся апостолы и Иуда начинает его оскорблять, за то, что вместо того, чтобы стать Мессией, Им была выбрана мирская жизнь. Он сползает с ложа и начинает из последних сил ползти к открытой апостолами двери, а потом карабкаться по ступеням наружу, словно поднимаясь на высокую гору, у подножья которой горит разрушенный римлянами Иерусалим.
Там Он начинает молить Бога, чтобы Он снова вернул Его на крест. И только тогда с глаз Христа спадает пелена сна, в котором он поддался искушению Дьявола и улыбка появляется на Его лице. Свершилось! – кричит Христос и его безжизненное тело виснет на вбитых в руки гвоздях.
Фильм закончился. Остался какой-то неприятный осадок, что тебя приняли за полного дурака, которому лень было самому прочитать Евангелие, хотя одно от Матфея, чтобы сказать, что из всех двенадцати апостолов, только один Иуда, самый достойный ученик Христа, благодаря которому, только и могло возникнуть христианство.
Режиссёр явно поленился перед началом съёмок этого скандального фильма ещё раз заглянуть в Библию, чтобы хотя бы правдиво донести по решению, какого суда Христа распяли на Голгофе.
Показанный в фильме Пилат, как будто, сам выносит ему приговор, а не утверждает его, как было на самом деле (со слов евангелистов), по решению суда синедриона. И главное, что не говорилось и не показывалось в фильме, что Понтий Пилат был против казни Христа и умыв руки перед еврейским народом, который требовал Его распять, сказал, что он не считает себя виновным в том, что прольётся кровь этого Праведника.
Если Пилат вымыл руки, утвердив приговор синедриона и бесновавшейся на площади толпы, то известный американский режиссёр перед съёмками и во время съёмок фильма «Последнее искушение Христа», явно руки не мыл. Да и Библию, по всему было видно, он использовал, только, как тяжёлый предмет, прижимающий к столу листы киносценария, чтобы во время съёмок их не разметало ветром по съёмочной площадке.
Выключив телевизор, мы с Сергеем сошлись во мнениях, что, какими же нужно было быть идиотами или полными мудаками, чтобы по поводу этого посредственного и скучного фильма, снятого известным режиссёром, по мотивам Нового Завета, драть глотки во время митинга в Останкино с требованием запрета его показа.
Да этот фильм, даже без этих истошных воплей и так бы, почти никто не стал бы смотреть до конца и тем более, какой бы дурак смог поверить в то, что какой-то фильм может так расколоть общество, что это может привести к непредсказуемым последствиям. Хотя, действительно, чтобы понять к каким фильм мог привести последствиям, нужно было либо быть во власти навязчивой идеи защиты нравственности русского народа, либо иметь очень извращённую фантазию.
10 ноября 1997 года. Утром, одна из постоянно находящихся в раздраженном состоянии медсестёр, кричит на весь коридор в след, идущему из столовой с тарелкой в руке, Коле Ясенкову:
- В триста первой, опять, все в палате жрут!
Коля не выдерживает и, оборачиваясь, задаёт этой медсестре, нескромный вопрос:
- Ну, что тебе, за то, что ты так кричишь, отдельно доплачивают?
- Да, доплачивают…- и дальше даётся понять, кто такой Коля и кто здесь она.
Но на этом, эта история не заканчивается и её продолжения не приходиться долго ждать, как во время любого спектакля, когда дело близится к развязке, только после антракта. Не успевает Коля зайти в палату, как следом за ним, показываясь в проёме двери, уже другая медсестра, из той же дежурной смены, кричит:
- Ольховцев, Ясенков, Волошинов – в процедурную!
К моему удивлению все трое, когда возвращаются в палату, после «прописанных» им болезненных процедур, на этот раз просто покатываются от смеха.
Избежавшие в этот раз экзекуции больные с нетерпением ждут, от чего такое веселье и, узнав в чём дело, также начинают даже не смеяться, а просто ржать.
Оказывается, когда наша троица вошла в процедурную, то медсестра, с которой Ясенков, обменялся любезностями после завтрака в коридоре, увидев его там, сразу сказала своей подруге, что это сегодня её «пациент» и что Ясенкову она сделает укол сама, и к тому же с большим удовольствием.
Коля в позе, лежащего на топчане с голой задницей, трупа, приготовился к самому худшему, что было в его жизни.
Ольховцев, увидев, как медсестра, тщательно перебирает многоразовые шприцы и подбирает к ним иглы разной длины, диаметра и угла среза, почувствовал, пробежавшей вниз по спине холодок, который мгновенно подействовал лучше любой анестезии, на всём, вдруг одеревеневшем пространстве его задницы, по обе стороны от его кобчика.
Волошинову тоже, как-то стало не по себе, но показать, что и он боится сегодняшней процедуры, было не в его характере, хотя, что ему предстояло испытать, он теперь мог увидеть, глядя на Ясенкова.
А это, хотя бы как-то могло его морально подготовить, чтобы не завопить от предстоящей боли, в то время как, Ольховцев, словно загипнотизированный, смотрел только на шприц, который выбрала медсестра, вставив в него, скорее всего самую толстую и наверно с самым тупым концом иглу.
Медсёстры, возбуждённые видом сильно перепуганных мужчин, не торопясь, наполняют шприцы лекарством для инъекций и машинально надевают на иглы предохранительные колпачки, хотя той, которая решила обслужить Колю Ясенкова, как в публичном доме на самом высоком уровне, глядя на его голый зад, делать это было совсем необязательно.
Чуть ли не танцующей походкой, эта медсестра, с которой Ясенков, на своё горе «поговорил» о её дополнительной зарплате, подходит к нему и ласковым голосом говорит, – ну, что голубчик готов! Коля вздрагивает всем телом, а медсестра быстро сняв с иглы предохранительный колпачок, из всей силы всаживает шприц… себе в палец.
- А-АаА-а – завопила медсестра, а Сергей Волошинов, наверно ещё до конца не оценивая своего чёрного юмора, сочувственно её спрашивает, – палец-то, наверно, теперь ампутируют?
- Дурак!.. Придурки!.. Дура!.. – бросая шприц на пол, кричит медсестра на хохочущих больных и на еле сдерживающую смех свою подругу. И наверно совсем обезумев от злости, зажав большой палец левой руки правой рукой, выбегает, из помещения процедурной, хотя обработать рану на пальце, можно было и там.
Уколы, которые сделала потом вторая медсестра, они даже не почувствовали, а старик Ольховцев, казалось, от пережитого им ужаса, даже помолодел лет на десять. Он был, как никогда бодр, и даже заразительней всех смеялся над тем, что «испытали» и он сам, и его товарищи по «несчастью».
Затем разговор зашёл о фильме «Последнее искушение Христа». Посмеялись над тем, что общество никак не отреагировало на показ этого фильма. Да и по телевизору в новостях, ни о каких волнениях в стране не говорилось и появление Антихриста в общественных местах Москвы, оказывается, никто не наблюдал.
Хотели уже разойтись по кроватям, но тут вошедший в палату Шолохов, ходивший, звонить домой, сказал, что его жена сегодня разговаривала с родственниками из Белоруссии, от которых узнала, что по указанию президента Лукашенко, канал НТВ отключили прямо во время трансляции передачи программы «Итоги». Мало того и у их соседей, которые являлись абонентами системы «Космос-ТВ», которым гарантировался показ российских каналов при «любой погоде», тоже была прекращена трансляция, но там хотя бы появились на экране титры, что «Трансляция временно прекращена по независящим от «Космос-ТВ» причинам». По окончании фильма «Последнее искушение Христа» трансляция сразу же возобновилась.
Вошедший в палату, следом за Шолоховым, Телицын, ходивший в процедурную, принёс свежие московские новости, которыми с ним поделились дожидавшиеся там своей очереди больные. Оказывается в некоторых районах Москвы, на время трансляции фильма Скорсезе, была отключена электроэнергия.
Действительно все согласились с тем, что заставь дурака Богу молиться, он не только себе лоб разобьёт, но ещё и в элетрощитовой рубильник выключит. Знали бы жильцы тех домов, кто им разморозил холодильники и в связи с чем, – травматологическим пунктам в Москве пришлось бы сегодня трудиться в авральном режиме…
У деда Писеева, который целую неделю находился в полной отключке и может ещё был жив только потому, что от его постели, ни днём, ни ночью, не отходила, спавшая рядом на раскладушке дочь Люда, наступило прояснение сознания, и он неожиданно для всех заговорил:
- Надо с пенсии шампанского купить…
- Что? Чего? – не может понять отца, спросонья, его дочь Люда, а дед, видимо, ещё не слыша её, продолжает:
-…да, не плохо бы, холодненького.
- Да, разве тебе можно? – спрашивает отца Люда, и уже сквозь смех в палате, я слышу, чем заканчивается этот диалог:
- Да, мне, хотя бы, только, посмотреть на пузырьки…
Когда смех стихает, Коля Ясенков, кажется, даже ни к тому не обращаясь, а самому себе, говорит:
- Вот сказали о шампанском, и эта бутылка, как будто стоит перед моими глазами…
В который раз за этот день откладываю в сторону ручку и блокнот со своими, не имеющими ещё близкого конца мемуарами и, оборачиваясь к нему, интересуюсь:
- Тебе Коля, наверно нужно бутылку шампанского прямо в капельницу поставить?
- Хорошо бы, да вот тогда бы, отсюда, и уходить не захотелось…
Разговор обрывается, мне кажется, что Коля заснул, и я снова берусь писать мемуары, но, не успев написать несколько слов, как снова слышу Колин голос. Оказывается Коля всё это время, продолжал разглядывать воображаемую им бутылку шампанского, и теперь возможно даже почувствовал, не совсем ещё забытый, его вкус:
- Раньше мне шампанское не нравилось. А тут, как-то месяц назад попробовал выпить , показалось вроде бы ничего, даже хорошо стало как-то…
Как обычно бывает, стоит кому-то начать разговор о вине или выпивке и даже просто о том, до чего может довести пьянство, как сразу, со всех сторон, начинают сыпаться рассказы, в которые иногда трудно поверить.
На этот раз в «ударе» был Серёжа Волошинов, со своей серией «зарисовок» о знакомых ему работниках Большого Театра.
Первый рассказ особого впечатления не произвёл, хотя сама по себе ситуация была не столько смешной сколько трагикомичной по своей нелепости и своим последствиям. Но для разогрева публики, как иногда говорят работники эстрады, сюжет был подходящий.
История была связана с поминками близкого родственника бывшего директора Большого театра, который, переходя то ли речку, то ли озеро, провалился по шею в полынью почти у самого берега, именно там, куда вся деревня ходила за водой. А так как он был в стельку пьян, то даже не попытался выбраться из полыньи и просто в ней замёрз, точнее, вмёрз в ней так, что сверху торчала только его голова в шапке.
Родственника директора театра даже пришлось выкалывать из полыньи, а потом ещё размораживать перед тем, как раздеть, чтобы обмыть, одеть в чистую одежду, положить в гроб и похоронить. Так что хлопот с покойником было много, и одно, если можно сказать или выразиться было хорошо, что холода только наступили, и земля не успела глубоко промёрзнуть. И как тогда, кто-то выразился на поминках, – хоть земля на него в могиле легла пухом.
Бывший директор Большого театра привёз на похороны музыкантов из числа тех, кто был чем-то ему обязан и не мог отказаться от приглашения проводить в последний путь с музыкой близкого родственника, своего бывшего начальника. Все они также были из числа тех, которые всегда были готовы выпить где угодно, с кем угодно и по какому угодно поводу.
Когда автобус с бывшим директором Большого театра въехал во двор дома, там он очень удивился, увидев новую коробку туалета. Обращаясь к музыкантам, он даже отметил, – что наконец-то его брат, не уточняя какой, – родной, двоюродный или троюродный, – внял его просьбам и начал справлять нужду у себя во дворе.
Оказывается до этого, его брат и директор, когда приезжал к нему в гости, лазил через дырку в заборе на территорию колхозных мастерских и автохозяйства, чтобы воспользоваться общественным туалетом.
А там всегда, перед их приходом, кто-нибудь из работников автохозяйства или ремонтных служб, постоянно находясь в сильном подпитии, не попадал точно в очко и хотя их там было даже три, умудрялся нагадить между ними.
С чего это твой муж решился на такое дело? – указывая на новый туалет, спросил у вдовы бывший директор, но видно пропустил мимо ушей, или не придал значения её ответу:
- Да, в автохозяйстве, настил в туалете весь прогнил, так что теперь там только все по краям садятся. А мой, хотя о покойном плохо не говорят, как и ты больше центнера весил, не ровен час, мог провалиться, вот я и настояла, чтобы он туалет во дворе поставил. Туалет, то он поставил, но всё равно, верно моё сердце чувствовало, провалился, прости меня Господи, если не в говно, так в прорубь. Срам, то какой…
Бывший директор, как только мог, утешил вдову брата, и организовал «отпевание» по высшему разряду, как члену политбюро. Одних венков, привезённых из Москвы, с бутафорскими лентами, от учёных, космонавтов и других деятелей науки и искусства было положено на могилу и поставлено вокруг могилы десятка два, хотя его брат не играл даже на баяне. И мало того, если ничего не преувеличивать, он дальше, чем, по пьянке, с обрыва в реку не летал, точнее сказать, мягко не приземлялся и не приводнялся.
Как бывает обычно на деревенских поминках, выпито было много, даже чересчур. Бывший директор тоже изрядно перебрал и перед тем как ещё раз сказать что-то такое важное, что ещё никто не слышал о его брате и не знал о его больших заслугах перед отечеством, решил сходить в туалет. А когда приспичит, человеком руководит уже не разум, а рефлексы и давно проверенные временем обстоятельства, где можно поскорее присесть.
Так и наш директор побежал не в сторону стоящего во дворе нового туалета, а как обычно к дырке в заборе, по старой давно отработанной привычке, в общественный туалет. К тому же в связи с поминками к этой дырке была хорошо протоптанная в снегу тропа, пришедшими на поминки брата людьми, которые так значительно сокращали свой путь к его дому, по сравнению с дорогой, которая огибала территория колхозных мастерских и автохозяйства.
Директор прыгнул на середину настила и не успел даже расстегнуть штаны, как тот под ним не то что рухнул, а просто рассыпался и он оказался по шею в говне, проломив ногами уже образовавшуюся поверх него, из того же говна, ледяную корку.
С трудом, вытащив из вязкого уже начинающего замерзать говна руки, директор попробовал вылезти, но вскоре понял, что этого ему самостоятельно сделать не удастся.
Хмель из головы сразу выветрился и он, хорошо понимая, в какое глупое положение попал, и чтобы не разделить судьбу своего брата, и удостоиться чести быть похороненным с ним рядом на деревенском кладбище, а не на Ваганьковском, где он уже застолбил себе участок, начал звать на помощь.
Правда, он быстро понял, что в доме его услышать, никак не смогут, и была только надежда, что кто-то уйдёт с поминок пораньше и пройдёт, возвращаясь коротким путём к себе домой, мимо общественного туалета. Правда и на это надежд было мало, так как выпивки было много и не в деревенских традициях уходить с поминок, пока есть ещё, что и выпить, или, как говорят, у нас в народе, есть чем помянуть.
Неизвестно, когда бы спохватились, что за столом нет бывшего директора Большого театра его родственники, если два музыканта, не утруждая себя длинной дорогой до туалета, не стали бы справлять малую нужду прямо с крыльца. Одному из них показалось, что вроде бы кто-то кричит, второй прислушался и сказал первому, что ему наверно это показалось. И наверно они бы вернулись к столу, но их бывший начальник так завопил, что его А-а-а-а-а! и ё-ёё-ёёё –мать! – отчётливо услышали теперь сразу два музыканта.
Они бросились к дырке в заборе, подбежали к общественному туалету. В туалете было темно и можно было только разглядеть голову копошащегося в говне человека. У одного из музыкантов оказался в кармане коробок спичек и в свете горящей спички, они увидели, что, в буквальном смысле по уши в говне, там находится, не кто иной, как их бывший начальник.
Выражение я Вам руки не подам, – в этой ситуации имело теперь совсем другой философский смысл. Музыканты и рады были бы помочь, но понимали, что если сейчас окажут помощь бывшему начальнику, сами перемажутся в говне, а от него в деревне, ясное дело, до конца потом не отчистишься, так что дома пришлось бы долго объяснять, что это не они сами обожрались водки до того, что даже обосрались.
А кому ещё вытаскивать бывшего начальника, если им не самим? Один музыкант остался утешать бывшего директора Большого театра, а другой побежал в дом, где продолжались поминки.
Когда до участников траурного мероприятия дошло, что произошло с братом покойного, то тут даже вдова прослезилась… от смеха.
Но делать нечего, мужики в деревне и не к такому привыкли, так что долго раздумывать не стали, – кто-то сбегал за верёвками, кто-то быстро затопил баню, так что обмывать вслед за покойником пришлось и его брата.
А потом ещё целую неделю все вспоминали, опохмеляясь и «весёлые» поминки и как их отблагодарил брат покойного за своё «спасение». Так, что окончательно деревня протрезвела только на девятый день, когда душа покойного брата бывшего директора Большого театра, должна была предстать второй раз перед Господом, чтобы она могла попросить прощения за свои грехи, после шестидневных странствий среди райских кущ, и последующей отправкой до сорокового дня в ад.
Не успели мы отсмеяться над этой трагикомичной историей, как Сергей Волошинов, продолжил развивать близкую ему тему из жизни работников Большого театра. На этот раз она была связана с дирижёром Большого театра. Известную всем его фамилию, Сергей не стал озвучивать, пожалев его родственников, но отметил самую главную отрицательную черту его характера или его широкой натуры, связанную с тем, что любая самая даже безобидная выпивка в компании с ним, для него всегда заканчивалась длительным запоем.
Поэтому неудивительно, что накануне ответственного выступления этого дирижёра, на котором должны были присутствовать члены правительства, его жена решила, что ей будет намного спокойнее, если муж дождётся этого выступления не в Москве, а проведёт это время под её неусыпным наблюдением на даче. Но и там дирижёр не упустил представившейся возможности нализаться до чёртиков, а тут ещё как назло его жене, тоже известному работнику культуры, нужно было срочно съездить в Москву на какое-то культурное мероприятие, на котором без неё, ну, никак, не могли обойтись.
От греха подальше ей пришлось забрать все вещи мужа с собой в Москву, и мало того ещё и его самого закрыть, до своего возвращения на даче.
Проснувшись утром и обнаружив, что опохмелиться в доме не чем, и мало того, что он ещё заперт без одежды на даче, дирижёр не растерялся, достал припрятанные на подобный крайний случай деньги и надев платье с кофтой жены, вылез через окно на улицу дачного посёлка.
Но рядом с дачным посёлком, в сельском магазине, в этот ранний час, выпивки в продаже ещё не было и дирижёру, ничего не оставалось, как идти на железнодорожную станцию, чтобы проехать несколько остановок на электричке до ближайшего подмосковного городка.
Проходивший по вагону, проверяя наличие билетов контроллёр, обратил внимание, на небритого мужчину в женской одежде, невозмутимо болтавшего с пассажирами, которые от его острот, покатывались со смеха и хотя, прокомпостировав ему билет ничего не сказал, но сообщил машинисту о странном пассажире, а тот на станцию городка, до которого наш дирижёр ехал.
Когда дирижёр вышел из электрички, на перроне его уже ждали два санитара, а рядом со станцией, машина скорой помощи. Дирижёр стал возмущаться, – по какому праву, они его куда-то ведут, что он будет жаловаться, что они не имеют никакого права, так грубо обращаться с заслуженным деятелем советской культуры, но санитарам было не привыкать слышать и не такое, поэтому они просто затолкали его в машину скорой помощи.
Когда же он, наконец, представился санитарам в качестве дирижёра Большого театра, те закивали головами и сказали, что они о нём, так сразу и подумали. При этом ещё постарались успокоить тем, что в областной психиатрической больнице уже много солистов из московской филармонии, а также их почитателей из известных военачальников от Наполеона Бонапарта до маршала Жукова.
В палате, где его со связанными рукавами положили рядом с Наполеоном, он несколько часов подряд выкрикивал номер московского телефона, по которому врачи должны были позвонить, чтобы убедиться, что он действительно дирижёр Большого театра, что у них могут быть большие неприятности, если будет сорван большой государственной важности концерт.
Главный врач, осмотревший этого странного пациента, поставил диагноз навязчивая шизофрения и сказал медперсоналу не обращать внимания на крики этого дирижера и делать регулярно успокаивающие таких пациентов процедуры. После этих успокаивающих процедур, дирижёр засыпал, но когда просыпался, снова продолжал истошно выкрикивать номер московского телефона, и так достал этими криками персонал больницы и санитаров, что один из них в шутку, в конце следующего дня, сказал, – а не позвонить ли нам по этому телефону, который уже вся больница знала наизусть.
Дежурный врач смеясь, подошёл к телефону, поднял трубку и, когда набрал этот номер, то и тут уж все открыли от удивления рты, увидев, как у него широко раскрылись глаза, которые едва потом не выкатились на лоб от полученного ответа на заданный весёлым голосом, вопрос: «Это случайно, не квартира дирижёра Большого Театра?»
Оказывается, на ноги в то время была поднята вся московская и областная милиция. Уже с собаками обшарили все лесные массивы в окрестностях дачного посёлка и водолазы обследовали дно пруда и заодно противопожарного водоёма. Кому могло тогда прийти в голову и тем более, жене дирижёра, что её муж может оказаться в психбольнице. Ну, где угодно, хоть у Чёрта на сковороде, но только не там.
Буквально через полчаса гудя сиренами к больнице, подкатило несколько машин, а за ними на территорию больницы въехала чёрная «волга» с женой дирижёра Большого театра.
Поднятый дома с постели, телефонным звонком из больницы, главный врач, нервно поправлял наспех повязанный галстук, как мог, пробовал извиняться перед женой дирижёра. Но жена дирижёра, не обращая внимания, ни на него, ни на весь собравшийся медперсонал больницы и милиционеров, крыла мужа таким отборными выражениями, при этом, помогая ещё ему быстро натягивать на себя брюки и рубашку, что всем уже было ясно, что никуда и никому этот дирижёр жаловаться не будет.
Особенно после того, как медсестра принесла одежду дирижёра, в которой он попал в больницу, и та стала своей юбкой и кофтой гнать его впереди себя до машины и продолжала бить уже в ней.
Когда машины с дирижёром и милицейского эскорта, скрылись за воротами психбольницы, главврач, наконец, перестал поправлять галстук, который так и остался на боку и сказал то, что нужно было бы золотыми буквами выбить на фасаде его богоугодного заведения: «Если такие дирижёры в Большом театре Москвы, то какие же дирижёры в остальных театрах?
Ох, это водка, проклятая, – перестав смеяться, сказал Телицин, – как много тех, кто не знает меры, сколько не пьют, всё им кажется, мало или маловато.
И как всегда бывает, вдруг, неожиданно, только одно какое-то сказанное слово, вызывает сразу волну воспоминаний, так и у меня слово «маловато» вернуло в те годы, когда я проходил службу в Советской Армии. Поэтому, воспользовавшись паузой, я решил рассказать об одном эпизоде из своей армейской жизни, который до сих пор вызывает во мне смешанные чувства от неправильно воспринятой тогда фразы майора Каменева, – жалко, что водки маловато? Но всё по порядку.
Однажды утром, сразу после подъёма, я как обычно побежал за дровяной сарай, напротив деревянного барака казармы, чтобы побыстрому «сходить» по-маленькому в ближайший куст орешника. И только я с облегчением поправил трусы, как увидел за эти кустом майора Каменева, собиравшего там молоденькие свинушки. Конечно, можно было сделать вид, что я не заметил майора Каменева, своего бывшего начальника радиолокационного отделения Дивизиона армейских мастерских, но настроение было хорошее, да и майор, когда ещё был капитаном, сам надо мной без конца подшучивал.
Появляясь в самый не походящий для меня момент, от всегда старался отметить, что я или по-еврейски ножовку держу, или опять что-то делаю на самолёте через жопу. Я, конечно, не оставался в долгу, но дело до гауптвахты никогда не доходило, так что отношения можно было бы сказать, были чисто товарищескими, к тому же в одинаковых синих комбинезонах, мы отличались друг от друга только тогда, когда на построении перед работой МиГах, он надевал офицерскую фуражку, а я пилотку.
Но после последней с ним встречи, до повышения капитана Каменева в звании и его переводе на преподавательскую работу в Учебную часть по переподготовке лётного и инженерно-технического состава авиации ПВО, «выстрел» оставался за мной и теперь такой удобной возможностью для «стрельбы», грех было не воспользоваться.
Поэтому, не смотря на то, что был в столь не пристойном для советского солдата виде, сразу, как он только поднял вверх глаза, и наконец меня увидел, я с сочувствием в голосе, задал ему нескромный вопрос:
- Товарищ майор, я что-то не пойму Вас. Даже как-то за нашего барда Владимира Высоцкого обидно. «В заповедных и дремучих страшных муромских лесах», где мы с Вами находимся, в которых тьма благородных грибов, вы довольствуетесь одними свинухами и наверно ещё радуетесь, когда увидите чёрного или белого груздя в компании мухоморов. Даже я, рядовой Коханов, здесь обнаглел настолько, что все грибы, кроме белых уже воспринимаю, как поганки.
Майор поставил корзинку со своими «поганками» на землю и уже хотел сказать мне, что-нибудь такое, чтобы я оказался наверняка в очередной жопе, но на этот раз перехватить инициативу ему не удалось, потому что всё, что он мне мог сказать, было написано у него на лице. Мне только оставалось, всё, что он мне хотел сказать, просто прочесть, ему же, в слух:
- Конечно, Вы наверно подумали, – ну, где, как не у солдатской казармы, лучше всего собирать грибы, какой ещё до этого генерал додумается? Кому они там нужны? Но Вы, если так подумали, глубоко заблуждались, все белые грибы в радиусе 2 км, я давно съел сам, правда, не один, товарищи помогли. Если Вы мне не верите, можете поинтересоваться у старшины, – он мне сначала грозил тремя сутками гауптвахты, но потом понял, что я всё равно не перестану их варить и есть. Поэтому он взял с меня честное слово, что я буду в дальнейшем варить грибы только в кастрюле, а не как обычно, в 5-литровой жестяной банке от томатной пасты. На кастрюлю пришлось потратиться, да ещё дополнительно пообещать, что варить в ней буду только одни белые грибы и при том лишь те, которые соберу лично.
Майору видимо уже, и сказать было нечего, он махнул мне рукой, поднял корзину и пошёл прочь от сарая. Я опять не удержался и крикнул ему в след:
- Товарищ майор, правее, в метрах пятидесяти, ельник, там полно маслят, но их там удобней собирать совковой лопатой.
Майор принципиально повернул вправо, явно потеряв дальнейшую охоту собирать грибы, хотя ближе к своему дому ему лучше было идти немного левее, прямо по маслятам.
Казалось бы, ну «поговорили» люди и разошлись, так нет, в следующее воскресное утром, почти сразу после завтрака слышу, дневальный кричит: Коханов к телефону! Кому я мог понадобиться, даже сразу не сообразил, но услышав в трубке голос майор Каменева, всё сразу понял:
- Константин, ты сегодня не в наряде?
- Нет, товарищ майор, а что случилось?
- Как насчёт того, чтобы сходить за грибами?
- Всегда готов, только надо у старшины…, – но майор Каменев не дал закончить фразы и, перебив меня, сказал, что со старшиной он уже договорился:
- В таком случае, не тяни время, собирайся, жду у себя дома.
Я уже хотел закончить разговор фразой, – уже бегу, – как стоящий рядом Юра Костюрин и ещё один москвич, точно уже не помню кто, попросили, чтобы я спросил у Каменева, а нельзя ли им тоже пойти с ним за грибами. Поэтому пришлось передать Каменеву сначала их просьбу:
- Товарищ майор, тут ещё двое хотят пойти за грибами, – и назвал фамилии знакомых ему солдат, находившихся ещё не так давно в его подчинении.
- Ну, если хотят, пусть идут, – сказал Каменев и повторив, что он меня ждёт, добавил, что и насчёт этих солдат, он сейчас позвонит старшине.
Подождав, пять минут, я пошёл в каптёрку к старшине уточнить, предупредил ли его майор Каменев о нашем походе за грибами и как он сам к этому делу относится. Старшина не возражал по поводу сбора грибов, но было видно, что он явно сожалел, что сам не догадался сделать мне такое же предложение.
Каменев, как и некоторые старослужащие Учебного центра переподготовки лётного состава ПВО, жил в деревянном доме, посередине небольшого приусадебного участка.
Я попросил своих товарищей подождать у террасы, а сам вошёл в дом, чтобы доложить, что мы уже готовы приступить к активным действиям на грибном фронте.
В большой комнате дома майор Каменев в это время заканчивал завтракать. Перед ним стояла бутылка водки, ещё заполненная на треть её объёма и рядом два гранёных стакана.
Я уже хотел отдать честь, и как полагается обратиться по уставу, но майор жестом пригласил меня к столу и с сожалением в голосе сказал:
- Жалко, что водки маловато!
Я подошёл к столу и подняв бутылку сказал, что водки хватит и такого количества, конечно, подразумевая только себя. Затем вылил её всю в ближайший к себе гранёный стакан, откинул вверх голову и залпом выпил. Когда я ставил пустой стакан на стол, то вдруг по выражению лица майора Каменева, как у дезертира во время расстрела, после команды, – пли! – понял, что сделал что-то не так и тут только обратил внимание на второй стакан, стоявший перед своим бывшим командиром.
У некоторых от выпитой водки лицо вспыхивает ярким румянцем, а у меня же, как я тогда почувствовал, оно стало просто пунцовым, причём вместе с шеей. Не зная, что сказать в своё оправдание, я всё-таки догадывался, что и майор тоже понял, какую он сморозил глупость, сказав, что водки маловато, вместо того, чтобы просто взять и самому её разлить по стаканам.
Наступившее неловкое молчание нарушила жена майора Каменева, которая во время моего сольного выступления, вошла в комнату с полной сковородкой жареной картошки:
- Ну, теперь мне ясно, каких теперь от Вас ждать грибов?
Она сначала намеревалась разложить принесённую картошку на стоявшие передо мной и её мужем тарелки, но потом, немного подумав, решила, что пусть уж её всю съест явно понравившейся ей солдат, потому что в это время смотреть на мужа и удержаться от смеха, было невозможно.
Надо отдать должное и майору, он, посмотрев на лежащую в своей тарелке котлету, которой уже нечего было закусывать, также переложил её в маю тарелку и пошел переодеваться.
На вопрос майора, когда мы вышли из дома, – куда лучше собирать грибы? – я ответил, что наверно, чем за взлётной полосой аэродрома, лучше места не найти, наивно предполагая, что уж там, точно , ещё никто грибы не собирал.
Но лётчики, которые взлетали с аэродрома и потом садились на этой взлётной полосе, наверняка думали также о грибах в этом лесном массиве, не говоря уже об офицерах и сержантах сверхсрочниках аэродромных служб, которые могли в этом убедиться даже в рабочее время.
Мне это стало ясно, только после того, как я увидел последствия тотального сбора белых грибов и кислые лица майора и моих товарищей по казарме. К тому же их лица, ничего кроме желания меня отлупить, явно при этом ничего другого не выражали. К счастью от выпитой водки и прекрасной закуски, у меня обострилось не только зрение, а заодно, также и интуиция.
На поляне с десятком пеньков от срезанных ножек белых грибов, я разглядел еле приметную шляпку, вылезающего из земли боровичка, потом второго и рядом с ним третьего его товарища, и пока ничего никому не говоря, быстро откапал их, срезал и положил в корзинку майора Каменева. Затем, уже обращаясь ко всем грибникам, сказал:
- Как Вы все поняли крупных белых грибов нам здесь не найти, но вот таких, небольших, которых никто ещё не догадался собирать, мы вполне вчетвером сможем набрать целую корзинку – нужно только рассредоточиться, а где искать грибы, нам даже уже и думать не нужно.
Повторять, как собирать белые грибы дважды мне не потребовалось и поэтому мы все быстро, в буквальном смысле, расползлись по лесу. Иногда в поиске «грибных мест» мы с майором Каменев встречались глазами, и, показывая друг другу очередной найденный белый боровичок, трех-четырёх сантиметрового роста, и вспоминая что сказала его жена, – ну, теперь я понимаю, каких от Вас ждать грибов, – просто покатывались от смеха.
Мои товарищи, собиравшие рядом грибы, никак не могли понять, отчего такие же, как ими же найденный грибы, у Коханова и Каменева, могли вызывать такой приступ смеха и только пожимали плечами.
Когда мы расходились «по домам», я, положив в корзину Каменеву последний боровичок, сказал ему, что жена, когда увидит, какие он грибы принесёт, наверно будет довольна. Хотя так и хотелась сказать, что будет наверняка потрясена не меньше его самого, когда я, неправильно истолковал фразу, что водки маловато, выпил её всю сам, даже не допуская мысли, что водки было маловато для двоих.
По дороге в казарму, моих товарищей так и распирало узнать, отчего мне с майором было в лесу так весело. А так как это дело было наше личное, и выглядели мы в нём одинаково смешно, я рассказал им историю, о которой они ещё не слышали, и которая произошла по месту новой работы майора Каменева.
Работал в учебном центре, ещё до перевода туда на преподавательскую работу Каменева, один, любивший долго поговорить после окончания занятий, преподаватель-подполковник, который сводил своей болтовнёй время перерыва между занятиями по другим предметам лётной переподготовки до минимума. От этой вредной привычке его навсегда отучил один старший лейтенант, которого на одной из таких лекций приспичило, как можно быстрее, сбегать в туалет.
Но и в тот день, после окончания своей лекции, подполковник, как назло, опять был в своём репертуаре. Когда он, наконец, покинул аудиторию, старший лейтенант, не обращая внимания, что нужно дождаться ухода преподавателя стоя и только по команде покинуть класс, бросился, расталкивая даже старших по званию офицеров к двери и выбежав в коридор, на ходу расстегивая ширинку, помчался в сторону туалета.
Вбежав в туалет, он распахнул дверь первой же кабинки и с облегчением, как из пожарного брандспойта выпустил струю в лицо сидевшего там, подполковника, только прочитавшего ему очередную лекцию. Старший лейтенант, только тогда понял, что унитаз занят, когда разглядел сначала не человека, а погоны, на которых были по две большие звёзды, а затем и руки, которыми старался отбивать хлынувший под сильным напором на лицо, поток мочи, подполковник.
Справился со своим брандспойтом старший лейтенант не сразу, поэтому быстро захлопнув дверь кабинки, заодно облил не только её дверь, но и пол, и входную дверь на выходе из туалета, а в брюках нижнее бельё, когда, также на бегу застёгивал ширинку.
В общем, успел удрать, неопознанным «диверсантом». Хорошо, что этот в день это было последнее занятие, и подполковник в кабинке туалета не долго ждал, когда в коридорах второго этажа стихнет шум. Убедившись, что все разошлись, он вышел в коридор, дошёл до преподавательской комнаты и, приоткрыв слегка дверь, чтобы убедиться, что там никого нет, вошёл внутрь.
Открыв свой шкаф и вытершись висевшим там полотенцем, которое затем выбросил в мусорное ведро, подполковник надел шинель с фуражкой, и не отвечая на приветствия, дежуривших на выходе из учебного корпуса солдат и охраны на проходной, пошёл домой.
Что он дома сказал своей жене, об этом никто не узнал. Хотя на каждом занятии с этой группой офицеров, подполковник, вглядываясь в их лица, и соизмеримо с их званиями, которые у некоторых были такими же, как и у него, пробовал догадаться, кто же всё-таки мог так его окрестить по высшему разряду такой «святой» водой.
Старший лейтенант проболтался об этом только в конце занятий, перед отъездом после экзаменов в свою часть, а подполковник больше никогда не задерживал после лекций ни одного офицера.
История, рассказанная мной, вызвала у больных смешенные чувства, так как нечто подобное могло произойти, в принципе, с каждым и только Сергей Волошинов сказал то, с чем было трудно не согласиться:
- Ну и садист ты Коханов, ведь майора мог хватить инфаркт, потому что его организм приготовился к выпивке, напряг все свои потенциальные возможности, вздрогнуть и расслабиться, а тут такой облом и стресс, за которым только капельница, реанимация, а может и сразу дорога на вскрытие в морг.
Наступившую паузу, связанную с размышлениями каждого над тем, насколько верны рассуждения Волошинова, разрядил Шолохов, который сказал, что он не сомневается, что такое действительно возможно, и мало того подобный случай даже уже имел место на работе у одного его родственника.
Родственник или знакомый родственника Шолохова после окончания театрального училища, вместе со своим лучшим другом, был принят в труппу одного хорошо известного всей Москве театра. А в этом театре часто главные роли исполнял известный всей стране, в основном, как кинозвезда первой величины, артист.
Даже сыгранные им многие роли второго плана в кино и в театре, не говоря об эпизодах, долгое время обсуждались, хотя сами кинокартины и театральные пьесы, не будь в них его участия, просто забыли бы и не стали вспоминать даже на следующий день после премьеры. Но одна слабость была у этого популярного в народе актёра – уж очень он любил выпить, особенно после удачно исполненной роли в компании своих коллег, да ещё расслабиться так, что говорить напился до чёртиков, это было бы одно и тоже, что сказать, что он только с утра опохмелился.
Попав несколько раз в состоянии белой горячки в больницу, да ещё один раз в предынфарктном состоянии, наш артист понял уже сам, что это всё для него может плохо кончиться, и поэтому коллективных попоек стал избегать, но пить совсем не бросил.
И так уж у него повелось с тех пор, что до прихода родственника Шолохова в этот театр, он уже несколько лет, перед последним актом, наливал себе стакан водки и ставил его за шторой окна рядом со своим столом в артистической уборной. Затем, накрыв стакан с водкой сверху бутербродом, который приносил из дома или покупал в театральном буфете, он выходил на сцену и в предвкушении от того, как он закончив читать свой заключительный монолог и раскланяется со зрителями вернётся в уборную и выпьет залпом этом божественный напиток, выкладывался на всю катушку и потрясённые его талантом зрители напрасно потом стоя рукоплескали, чтобы он вторично вышел на поклон, но никогда не обижались, считая, что у него уже просто не осталось сил, чтобы прийти в себя из воплощённого им образа главного героя пьесы.
А тем временем наш актёр, садился на стул у своего стола, потирал руки, и театрально вздрагивая, и проглатывая слюну, от предвкушения удовольствия отодвигал штору, брал в правую руку стакан, а в левую бутерброд с красной икрой или осетриной и по-стариковски крякнув или сказав, – иэ-эх! – откинув по-гусарски голову вверх, быстро опрокидывал в рот, этот стакан водки. Потом он также быстро ставил пустой стакан на стол, причмокнув, и словно той же рукой вытерев усы, медленно подносил ко рту бутерброд и не спеша, растягивая полученное удовольствие, начинал смаковать закуску.
Некоторые, как и родственник Шолохова, не могли понять, как это можно, ни с кем ничего не обсуждая пить, да ещё при этом говорить, – как ему хорошо, чертовски хорошо, и чтоб всегда было бы так.
И вот однажды родственник Шолохова со своим приятелем, при попустительстве других своих более именитых коллег, решили подшутить над этим артистом. Когда тот пошёл получать очередной букет славы в последнем акте, они взяли и переставили стакан с водкой этого актёра за штору другого окна, а вместо него поставили стакан с обычной водой, накрыв его тем же бутербродом.
Артист, как обычно быстро вошёл в артистическую уборную и ничего не подозревая, отчего на этот раз были вызваны такие бурные поздравления с его очередным успешным выступлением, сел за стол и опрокинул, как всегда стакан водки.
Но что произошло дальше, об этом никто даже не мог подумать, потому что это не вызвало не только смеха, но даже стёрло улыбки на лицах тех, кто затеял этот спектакль.
Сначала все подумали, что это просто гениальная импровизация, оттого, что пустой стакан выпал из руки у артиста едва он его оторвал ото рта. Следом из левой руки выпал и оказался на полу бутерброд, а тело актёра не издавая не единого звука, стало медленно наклоняться в сторону и не упало на пол только потому, что кто-то успел его в последний момент поддержать и крикнуть, чтобы немедленно вызвали врача.
Скорую помощь не пришлось ждать долго, к тому же знавший артиста и не раз, «лечивший» его врач, случайно узнав, на чей вызов отправляется машина, также поехал в театр. Осмотрев артиста, и узнав, что спровоцировало его сердечный приступ, врач, так посмотрел на молодых артистов, что после того, как он их назвал идиотами, им могло показаться, что их просто похвалили:
- Да Вы, да как Вы, мать Вашу… и всех Ваших… ё..оновых родителей, могли…, – кричал на них врач, чередуя речь через слово матом, – …до такого додуматься! Да, Вы же нарушили его многолетний уклад жизни, сбили с ритма физиологический процесс, поддерживающий хрупкий баланс его существования. А это одно и тоже, если на полном ходу курьерского поезда, кто-то срывает стоп-кран. При этом, кто-то в вагоне получит только шишку на лбу, а кто-то свалившийся с верхней полки может сломать себе не только ребра, но и позвоночник…
Чего только не бывает в жизни, – не удержавшись от комментирования рассказа Шолохова, сказал Ольховцев , – но для одного водка болезнь, алкоголизм и белая горячка при неправильном образе жизни, а для кого-то, кто ведёт правильную жизнь, она не приносит никакого вреда и никак не отражается на состоянии здоровья – идёт только на пользу.
Мы все переглянулись, думая, что старик Ольховцев начал заговариваться, с кем в его возрасте не бывает, а может просто у него вдруг, резко подскочила температура и отсюда весь его бред.
Не обращая внимания на то, что все понимающе, молча, переглянулись друг с другом, Ольховцев продолжил развивать свою мысль, оказывается почёрпнутую из «Воспоминаний Адмирала Крылова»:
Я где-то в конце пятидесятых годов, читая воспоминания адмирала Крылова, долго смеялся, над тем как он, говоря о докторе Боткине, привёл разговор этого великого врача с каким-то, пришедшим к нему приём, его дальним родственником, посоветоваться, – не стоит ли ему, в связи с переездом в Петербург, изменить режим своей «правильной» жизни.
И начал рассказывать, как он встаёт в четыре часа утра и выпивает стакан водки, потом садится верхом на лошадь, и проверяет, в каком состоянии находятся его поля. Вернувшись в седьмом часу, опять выпивает стакан водки и закусывает, после чего начинает обход усадьбы, проверяя состояния скотного двора, конюшни и других хозяйственных построек. Возвратившись в девятом часу утра, опять выпивает стакан водки, закусывает и ложится отдохнуть. Когда встанет часов в одиннадцать опять выпивает стакан водки и до двенадцати часов обсуждает со старостой предстоящие дела.
В двенадцать часов опять выпивает стакан водки, обедает и опять ложится отдохнуть. Когда встаёт часа в три дня, опять выпивает стакан водки и едет верхом смотреть, как выполняются работы на его полях, вернувшись к четырём часам…
Боткин не даёт договорить необычному посетителю до конца, понимая, что ещё до того, как он ляжет спать, вполне может выпить ещё три-четыре стакана водки и пробует уточнить только некоторые детали из его режима жизни:
- Можете не продолжать, я уже всё понял, что опять выпиваете, стакан водки, потом обходите усадьбу и так далее, продолжая пить после каждого неотложного дела по стакану водки, пока не ляжете спать. Ответьте мне только на один вопрос и сколько уже лет, у Вас продолжается, такой «правильный» образ жизни?
- Да, уже пожалуй, лет двадцать.
- И как себя, чувствуете?
- Нормально.
- Ну, тогда так и дальше продолжайте Ваш «правильный» образ жизни, если по всему видно, что он Вам только на пользу, – ответил доктор Боткин, пожимая на прощанье руку своему первому пациенту, которому не потребовалась его помощь.
Сергей Волошинов, сразу сказал, что Ольховцев не правильно понял смысл слова «правильный» в рассказе о режиме жизни родственника адмирала Крылова, так как смысл этого слова был в том, что только жизнь подчинялась определённым правилам, а не сама была правильной на самом деле.
Все рассмеялись, хотя мало кто поверил, что такое могло быть на самом деле, но тут за Ольховцева заступился Телицын, который оказывается тоже читал воспоминания адмирала Крылова, правда значительно позже и поэтому в его памяти сохранилось больше подробностей из жизни не только доктора Боткина, но и физиолога Сеченова:
- Ольховцев немного напутал, кто, чего, кому говорил в воспоминаниях адмирала Крылова, особенно, что касается его родственника, – сначала уточнил Телицын, а потом, к нашему удивлению не стал особенно останавливаться на подробностях, пересказанной Ольховцевым истории, а рассказал о совсем другом, не менее интересном человеке, брате Ивана Сеченова – Андрее:
- Во-первых, на приём к Боткину приходил не родственник адмирала Крылова, а живший по-соседству с усадьбой Сеченова, помещик. От него доктор Боткин узнал, что тот был из тех же мест, что и его друг Иван Сеченов, поэтому просто поинтересовался у него однажды, не знает ли он такого помещика и о его «правильном» режиме жизни. Сеченов знал этого помещика, и, во-вторых, он ничего удивительного в рассказе доктора Боткина не нашёл, потому, что его родной брат был не меньшим оригиналом, а возможно даже был на голову выше.
Так вот его брат Андрей, как ни странно, тоже вёл не менее «правильный» образ жизни. Правда он вставал позднее того помещика, который приходил консультироваться к доктору Боткину, часов в шесть утра и сразу начинал работать в своей мастерской, которая занимала две комнаты на втором этаже дома. При этом через каждые пять минут он прерывал работу, подходил к шкафу, где всегда ему ставили графин с водкой, маленькую рюмку и блюдце с чёрными сухариками – выпивал рюмку водки и закусывал одним сухариком.
К вечеру он выпивал весь графин и уже за ужином выпив несколько больших рюмок, только после этого ложился спать. И вот такого правильного режима Андрей Сеченов придерживался, выпивая 36 литров водки в течении месяца, целых 50 лет. Неизвестно сколько лет прожил помещик с таким же «правильным» образом жизни по-соседству, но Андрей Сеченов умер, когда ему было почти восемьдесят лет.
Не смотря на такой образ жизни он выписывал несколько толстых журналов и газет, имел хорошую библиотеку, перечитал всех русских классиков и любил поговорить с молодёжью о литературе, умел остроумно выразить своё личное мнение, хотя и не всегда правильным и приличным литературным языком.
Так уж получилось сегодня, что захотел дед Писсеев рано утром, хотя бы на пузырьки шампанского посмотреть, а закончили мы разговор поздно вечером уже тем, что и три ведра водки в месяц, оказывается при «правильном» образе жизни, выпить не только не вредно, а даже полезно для здоровья.
От души, посмеявшись, разошлись по кроватям и крепко заснули, а Телицын и Шолохов, даже впервые за неделю, забыв, как обычно, перед сном, принять снотворные средства.
11 ноября 1997 года. С утра меня осмотрел лечащий врач и сказал, что ещё день-два и можно будет меня выписывать из больницы. Поинтересовался у него, какие и сколько времени ещё нужно будет принимать дома лекарства. Оказывается, теперь нужно будет, ежедневно измеряя давление, принимать «Атенонол» (25 мг два раза в день) или «Локрен» (10 мг один раз утром).
Когда пришла жена, передал ей, всё сказанное врачом и попросил теперь до моего звонка в день выписки больше не приходить. Посмотрев, что она мне принесла, сказал ей, что этого мне хватит дня на три, а про себя подумал, при условии, если кто-нибудь ещё поможет это всё съесть.
После ухода жены закончил писать мемуары, относящиеся к 1971 году, и приступил к описаниям событий 1972 года. Но тут вспомнил, как в 1971 году 6 ноября, на октябрьские праздники летал в Томск, куда меня пригласили в Томский университет, на конференцию посвященную проблеме Тунгусского метеорита, скорее всего, шутки ради, томские студенты. И опять, когда я закачивал, своего рода «отчёт о конференции», что на ней тогда и как обсуждалось, то снова не смог удержаться, чтобы не «прыснуть» от смеха.
В результате пришлось прервать свою непрерывную в этот день писанину, потому что Николай Ясенков, видимо, молча наблюдавший за моим творческим процессом, не смог скрыть любопытства, – что это так могло меня развеселить, – поинтересовался о причине моего, плохо скрываемого, смеха. Пришлось, отложить в сторону тетрадь и пересказывать, только что написанную часть, моих воспоминаний:
- Видишь ли, Коля, я тут вспомнил, как, вернувшись из своей второй самодеятельной экспедиции на Подкаменную Тунгуску, был неожиданно для себя, приглашён студентами Томского университета, с которыми познакомился там, к ним на свою ежегодную конференцию, посвящённую проблеме Тунгусского метеорита.
Конференции у них проводились по традиции 7 ноября – вроде бы и праздник отмечали и делом занимались, на что деканат смотрел одобрительно и даже поощрял за подобные инициативы.
Откуда мне было знать, что эта конференция была обыкновенным студенческим «капустником», когда молодёжь и преподаватели вуза собираются не столько серьёзно поговорить, сколько просто пообщаться и в меру повеселиться, вспоминая дела прошедшего экспедиционного сезона, разливая вино по стаканам, и говоря остроумные тосты, над накрытыми по случаю революционного праздника, столами.
Коротенько, минут сорок-пятьдесят, поговорив о проблеме Тунгусского метеорита, «конференция» приступила к основному мероприятию, для чего она и собиралась, к неформальной её части, общения за столом, которое не отличалось в те времена, от проводившихся по всей стране, в любых коллективах, подобных же мероприятий. Правда, с одной существенной разницей, что везде на работе, так отмечали 7 ноября накануне праздника, а здесь, в университете, непосредственно в день праздника.
Когда я понял, что слетал в Томск, заплатив за билеты в оба конца 104 рубля, свою месячную зарплату за вычетом подоходного налога и налога за бездетность, только за тем, чтобы выпить стакан портвейна и закусить куском варёной колбасы, то мне стало там, конечно, не до смеха.
Прошло 26 лет и это сейчас стало выглядеть, как самый настоящий анекдот. К тому же, если ещё к этому добавить и полное непредвиденное совпадение – неожиданно на 7 ноября слетал в Томск на конференцию в 1971 году, а в 1997 году на 7 ноября, неожиданно попал в больницу и главное и там, и здесь, явно без всякой необходимости и пользы для своего здоровья.
Колю явно рассмешила моя история, хотя и мне самому, тоже было рассмеяться отчего, когда Сергей Волошинов, который оказывается за моей спиной, лёжа на кровати, также слушал мой рассказ, перевёл сначала 104 рубля в бутылки трёхзвёздочного, а потом пятизвёдночного грузинского коньяка.
Трёхзвзвёздочного (по 4 рубля 12 копеек) получилось 25 бутылок, а пятизвёздночного (по 5 рублей с чем-то) оказалось 19-20 бутылок, но Сергей Волошинов не стал заострять внимание на количестве бутылок, а просто подвёл ошеломивший всех нас итог:
- Проще говоря, был разбит или вылит в унитаз, почти целый ящик пятизвёздочного коньяка, потому что, как говорил артист Сергей Филиппов, в фильме «Карнавальная ночь» – если посмотреть на небо, то там можно увидеть и одну, и три звёздочки, но пять звёздочек, конечно, лучше.
После такого сделанного Сергеем Волошиновым сравнения, теперь уже мы смелись все втроём, наверно достаточно громко, что заставило встать с постели Шолохова и подойти к нам с газетой в руке, чтобы мы и его ввели в курс, обсуждаемого нами «дела».
А когда я сказал, что, зато, никому ещё не удавалось, до меня сразу выпить залпом, ящик коньяка, смешно стало даже Шолохову, особенно, после того, как ему объяснили, что было на самом деле.
12 ноября 1997 года. Весь день продолжал писать воспоминания об экспедиции 1972 года:
…Прилетев в Ванавару, я первым делом решил встретиться с охотником Александром Лазаревым, у которого три дня гостил в зимовье, ниже устья Чамбы, на левом берегу Подкаменной Тунгуске в 1971 году.
Лазарева дома не оказалось, но зато я познакомился с ребятами из московской экспедиции. Надо было как-то представиться, и я назвался начальником Ангаро-Ленской экспедиции, выпалив первое, что мне пришло в голову, так как не хотелось объяснять первым встречным, что в настоящее время, являюсь человеком без какого-то определённого статуса, по сути, безработным по собственной инициативе, человеком, который действительно был начальником, но только над самим собой.
На ночлег пришлось идти к ребятам из КСЭ (томской самодеятельной экспедиции), которые для этих использовали балок, стоящий посередине улицы Увачана. О встрече с москвичами я сразу забыл, но к моему удивлению, они уже на следующий день, рано утром, нагрянули ко мне в гости, с неожиданной для моего «выдуманного статуса начальника экспедиции», просьбой.
Оказывается, один из москвичей подрался с кем-то из местных жителей, попал в милицию и московский начальник, чтобы замять скандал, пообещал его уволить. Я даже не мог представить, что в таком деликатном деле, они обратятся за помощью ко мне. Пришлось «серьёзно» войти в роль начальника Ангаро-Ленской экспедиции, и если бы я мог тогда предположить, что такая экспедиция действительно существует, то вряд ли б захотел принять участие в предстоящем спектакле.
Подойдя к палатке начальника, я попросил одного из геоморфологов, поковавшего какое-то оборудование, сообщить своему «шефу», что с ним хочет поговорить начальник Ангаро-Ленской экспедиции. Парень скрылся в палатке и оттуда, как мне показалось, сразу же выскочил его начальник.
Как потом выяснилось, что действительно существовала Ангаро-Ленская экспедиция и к тому же московские геоморфологи из МГУ, были её составной частью.
Когда начальник понял, что моя экспедиция «метеоритная» и мало того, что она вся перед ним в полном составе, то он рассмеялся и пригласил меня в палатку. Выяснилось, что начальник и не собирался увольнять Жору, так звали одного из рабочих, но и не хотел, чтобы дисциплина падала, и были неприятности с местными властями. Поговорил с ним о Тунгусском «метеорите», о своём маршруте и маршрутах геоморфологов. И тут оказалось, что маршрут одной из групп московских геоморфологов из МГУ, включал в себя озеро Чеко, от которого до Заимки Кулика было всего 12 километров. Я посоветовал геоморфологам не упускать такой возможности и обязательно посетить эти исторические места, прославленные нашими писателями-фантастами.
Начальник московских геоморфологов оказал мне неоценимую услугу, предоставив в моё распоряжение карты-километровки окрестностей Ванавары. Калька у меня была, цветные шариковые ручки тоже и я в течение нескольких дней подробно копировал интересующие меня места, не упуская мельчайших подробностей.
К сожалению, в основном, я скопировал уже изученные или обследованные Куликом, Флоренским и экспедициями КСЭ, места.
Тем временем Володя, сын руководителя КСЭ Николая Васильева, с товарищем делали отчаянные попытки взять на прокат или на время лодку, для задуманного ими водного маршрута. Ребята даже предлагали, что рассчитаются за лодку дефицитными запасными частями от подвесного мотора, но даже это не дало никаких результатов.
Пришлось мне обращаться к охотнику Александру Лазареву и вместе с ним идти к его знакомому, у которого можно было одолжить лодку. Выпили, поговорили, в итоге под моё честное слово, знакомый Лазарева, лодку ребятам из КСЭ, всё же дал. На прощанье я попросил, Володю, сына Николая Васильева, меня не подводить, и то, что он обещал хозяину лодки, вернувшись из похода, отдать.
К этому времени у меня практически всё было готово для моего путешествия. Оставалось только забросить на Заимку продукты, для завершающего этапа путешествия. А тут как раз в Ванавару прибыли два студента и студентка из Томска, которые приехали для работы в составе КСЭ в первый раз. В итоге их старшие товарищи, которые ещё не сформировали полностью группу для переброски снаряжения и продуктов на Заимку, упросили меня взять этих ребят с собой.
Как я потом догадался, им просто не хотелось рисковать и ждать от этих новичков на Тропе Кулика, каких либо сюрпризов.
На Заимке, в это время, находился только Джон Анфиногенов со своей супругой, которых, как я выяснил, туда «забросили» пожарники на вертолёте.
Но перед тем, как мне отправиться на Заимку, нужно было где-то оставить в Ванаваре основное снаряжение, предназначенное, для путешествия в верховья Верхней Лакуры. Ребята из КСЭ сказали, что не могут взять на себя ответственность за сохранность моего снаряжения в своём балке, найдя для этого довольно странную причину:
- Понимаешь, вдруг кто-нибудь вздумает оттащить твой мешок на Заимку, когда никого из нас здесь не будет.
Я выругался, правда, про себя, и, вытащив из балка мешок, отволок его в первый же поблизости двор, попросив разрешения у вышедшей навстречу мне хозяйки, оставить у неё в сарае часть снаряжения сроком на одну неделю. Женщина только поинтересовалась, – не испортится ли у меня что-нибудь в мешке?
Я сказал, – что нет, – и, забросив мешок в угол сарая, затем отправился в тайгу, чтобы уточнить, где начинается от Ванавары тропа Кулика, чтобы снова не оказаться, как в прошлом году, на тропе ведущей к зимовью перед устьем Чамбы.
На следующий день, рано утром, я со своей группой покинул Ванавару. Девушка шла налегке, у ребят были рюкзаки весом приблизительно по 25 килограмм, у меня он весил килограмм двадцать.
К моему удивлению студенты бросились в тайгу, преодолевать дистанцию приблизительно в 100 километров, словно на 500 метров. Не ожидая от них такой прыти, я тоже ускорил шаг. Через несколько километров один из студентов впереди меня как-то странно закачался и упал. Пришлось со вторым студентом, делить пополам больше половины вещей его товарища, и укладывать в свои рюкзаки. Неудивительно, что вскоре дальнейшее продвижение по тропе Кулика резко замедлилось, из-за того, что второй студент, тоже в любой момент мог также упасть. Пришлось часть вещей уже из его рюкзака, перекладывать в свой рюкзак, и я думаю, что в первый день мы не прошли даже 20 километров.
Ночевали в палатке. Костёр разожгли на старом кострище, хотя мне и показалось, что этот костёр разводили зимой. Ночью, когда я вышел из палатки обратил внимание, что вокруг нас начал тлеть мох. Пришлось более часа вырубать охваченную горением часть поляны и заливать тлеющий мох водой.
На последующих стоянках начали соблюдать повышенную осторожность при выборе площадки для костра. В избушке на Чамбе нашли записку Джона Анфиногенова с просьбой не брать оставленные в ней продукты.
На Заимку Кулика мы пришли только в конце четвёртого дня. Сфотографировались на память.
С Джоном я обсудил детали моего маршрута через хребет Лакура. По аэрофотоснимкам уточнили, где лучше форсировать верховое болото. Таким образом, наиболее ответственная часть маршрута была проработана самым тщательным образом.
Я попросил Джона убрать принесённые мной продукты в лабаз с запиской, чтобы их не трогать до моего прихода.
Самым слабым местом моего маршрута было то, что нужно было точно оказаться у третьего озера, имевшего название Пеюнга и напоминающего по форме огромного головастика и дальше полагаться только на компас.
Обратно в Ванавару решил идти, до минимума сокращая время отдыха. В результате, проделав более 50 километров за день, я оказался на берегу Чамбы полностью измотанным человеком, которому не под силу было нести рюкзак весом всего около 10 килограмм. Чамбу переходить вброд не хотелось и я, бросив рюкзак почему-то у кромки тайги, вместо того чтобы бросить его рядом с рекой и захватив только с собой пакет с сушками, чаем, сахаром и спичками двинулся по берегу вниз по течению реки, к находившемуся там зимовью.
Это зимовьё было в более приличном состоянии, чем зимовьё, которое находилось на противоположном берегу, рядом с тропой Кулика и к тому же, что было важно в этом случае, ближе его.
В зимовье затопил печь, поставил чайник, заварил в нём чай, напился и, можно сказать, упал на нары. Заснул мгновенно. Проснулся через два часа и решил сходить за рюкзаком. Были глубокие сумерки, в которых, как говорят, все кошки серы. Поиски рюкзака не увенчались успехом, хотя я исходил весь берег. Плюнув на это занятие, назвал себя идиотом, что не поставил рюкзак у кромки воды, вернулся в зимовьё и снова лёг спать.
Часа через четыре выспался окончательно, но полностью восстановить силы не удалось, так как был нарушен основной таёжный принцип, именуемый ходкой – пятьдесят минут иди, десять минут отдыхай.
Позавтракав остатками сушек, пошёл обратно к переправе. Рюкзак нашёл сразу. По следам- тропинкам, протоптанным мной в траве, было видно, что ночью, мимо рюкзака, я прошёл несколько раз.
Оставшийся отрезок тропы Кулика, длиной где-то в 35 километров преодолел в том же темпе, хотя понимал, что после таких перегрузок вряд ли смогу в ближайшие дни начать путешествие на Лакуру.
В Ванавару я пришёл во второй половине второго дня, когда ещё работал магазин. Недалеко от магазина встретил Александра Лазарева. Захотелось немного расслабиться, но он мне сказал, что в магазине, ввиду начавшегося покоса, вино продают только по специальным запискам от местной власти.
Со стороны я видно выглядел очень странно, потому что, когда смотрю на свою фотографию, которую на следующий день сделал один из местных жителей, при этом, не испытываю к себе ничего другого, кроме чувства жалости.
На поясе у меня висел охотничий нож, а то, что в посёлке носить холодное оружие, было запрещено, не знал, и поэтому, когда в магазине я попросил одного «папашу» посторониться, чтобы поговорить с продавщицей, он, окинув меня взглядом, не стал выяснять со мной отношения, а сразу же пропустил вперёд.
Оказавшись у прилавка, я попросил продавщицу продать две бутылки вина, чтобы снять стресс от почти двухсоткилометрового путешествия по тайге.
Продавщика, сказала мне, что ей запрещено продавать вино без разрешения. Я же уточнил, что ей не разрешено продавать вино местным жителям, а я, как она может убедиться, к ним не отношусь.
Продавщица ответила, – что кому не продай вино, если увидят – её всё равно накажут.
- А кто увидит? – спросил я, окинув взглядом, окружавших меня людей. – Сделайте большой кулёк, положите в него две бутылки, а сверху насыпьте пряников, ровно столько, сколько войдёт, чтобы не было видно бутылок. По крайней мере, пряники продашь, которые у тебя наверно несколько лет лежат, только пугая покупателей.
Стоявшие рядом мужики засмеялись, но продавщица сразу же плюнула на запрет местных властей и сделала всё, как я ей посоветовал. В большой кулёк, положила две бутылки по 0,8 литра портвейна и засыпала их сверху, наверно двумя килограммами, окаменевших ещё на красноярском складе, пряниками.
Окинув взглядом, сразу погрустневшие лица мужиков, я спросил их, – почему они не любят пряники с начинкой, – и добавил, пропихиваясь сквозь толпу к выходу из магазина:
- А то смотрите, через час приду снова, с мешком, и куплю оставшиеся полтора ящика.
Когда я вышел из магазина с огромным кульком и сказал Лазареву, – угощайся! – он сначала на меня обиделся, но потом сразу, каким-то «профессиональным» нюхом догадался, что под пряниками бутылки. Хотя и дурак бы понял, что выходящие из магазина, за мной следом, весёлые мужики с большими кульками, торопились отнюдь не домой пить чай, а за ближайшую к реке какую-то хозяйственную постройку.
От магазина пошли к Лазареву «домой», если можно назвать, ту, тоже напоминающую проходной двор, постройку. Это скорее был «местный клуб». Не успели мы сесть за стол, как появились друзья Лазарева. Когда были выпиты принесённые мной и его «друзьями» бутылки, я понял, что на этом всё не закончится, и решил лучше снова пойти ночевать в балок.
В балке появились новые КСЭшники. Я завалился спать, но вскоре был разбужен громкими голосами. По отдельным высказываниям я понял, что дело может закончиться мордобитием. Пришлось подниматься, выйти из балка, и стать свидетелем того, как студенты выясняли отношения с местными ребятами. Не правы были, конечно, студенты, которые забыли простую истину, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
- Ну, что, – сказал я, глядя на конфликтующие стороны, – может, ляжем спать или хотите, чтобы завтра вас всех выдворили из Ванавары?
- Всё нормально, – ответили, увидев меня местные ребята, и отошли от балка.
Студенты в недоумении, что всё так, неожиданно обошлось без драки, вошли в балок. Я пошёл следом за ними, даже от усталости не соображая, что всё так мирно закончилось.
Позднее, когда я уже собирался улетать из Ванавары, один из тех «местных» ребят, который работал пожарником, рассказал мне в аэропорту, что многие, увидев меня шедшим из тайги прямо к магазину, (с тем, как им показалось невозмутимым видом), прониклись ко мне уважением. В результате сам того, не подозревая, я оказался, выражаясь на блатном жаргоне, местным «авторитетом», с которым лучше поддерживать хорошие отношения.
После случая с Жорой, которого после моего разговора с его начальником не уволили, как ему сказали только исключительно по моей просьбе, ко мне на улице подошли двое, слегка подвыпивших мужиков, устраиваться в мою «экспедицию» на работу бурильщиками. Когда я сказал, что мне бурильщики не нужны, то один из них обиделся и сказал:
- Конечно, дураки никому не нужны…
К этому времени, я уже ничему не удивлялся, и ответил, – что в моей экспедиции и так уже есть один дурак и никто иной, как стоящий перед ними, сам её начальник.
В результате не только развеселил бурильщиков, но и сам от души посмеялся, чем ещё больше укрепил свой, и без того и так уже сильно раздутый, «авторитет».
На следующий день, забрав мешок с продуктами и снаряжением из дома напротив балка, я стал готовиться к путешествию на Верхнюю Лакуру. И тут меня судьба свела ещё с одним из руководителей КСЭ Алёной Бояркиной, с которой у меня сначала установились нормальные отношения. Она даже предложила мне взять с собой на Лакуру кого-нибудь из КСЭ, чтобы оттуда захватить пробы грунта.
Правда, потом, когда я сделал несколько критических замечаний по поводу организации работы КСЭ не в научном плане, а только по организации маршрутов, как сразу почувствовал, что к чужому мнению здесь не только не прислушиваются, но и начинают выказывать ни чем неприкрытую неприязнь к тем, кто осмеливается критиковать установившиеся за более чем 10 лет порядки.
Особенно меня передёрнуло мнение сына руководителя КСЭ Н.В.Васильева, Владимира, когда он заявил мне, что поиск Тунгусского метеорита, в сущности, переродился в организованный туризм.
Сам я в жизни что-то не встречал туристов, которые ради собственного удовольствия таскали бы кому-нибудь каштаны из огня. Говоря более понятным языком, таскали бы торф для чьих-то диссертаций, причём часто с одного и того же болота в течение всего срока пребывания в тайге.
Неудивительно, что в КСЭ к этому времени преобладали девушки. По крайней мере, тех двух студентов, которых я привёл на Заимку, в сущности, отправили туда на практику и было понятно, что они не испытывали особого энтузиазма участвовать в поисках Тунгусского метеорита.
Таким образом, на Верхнюю Лакуру я отправился один. От Ванавары до устья Верхней Лакуры было около 40 километров. До устья Чамбы я добрался без особых приключений. Также благополучно поднялся вверх по Чамбе по левому берегу до ближайшего переката, где перешёл реку вброд. Вернулся по правому берегу к устью Чамбы и переночевал в избушке на другом склоне горы после устья, похожей на ёжика.
Утром продолжил путь по берегу Подкаменной Тунгуски. На первой остановке, когда я сел на валун у кромки воды, на шею сел овод, которого я ловко сбил рукой и, придавив ему голову, бросил в воду, практически у самого берега. От мощного всплеска воды, который произвела рыба, я даже вздрогнул, не ожидая, что такая крупная рыба могла подойти так близко к берегу, почти под мои ноги.
Места после Чамбы стали поживописнее, но любоваться ими особенно не приходилось. В устье Верхней Лакуры повторилось практически тоже самое, что и в устье Чамбы в 1970 году. Опять захотел срезать «угол», в итоге только потерял время и, в конце концов, пройдя в общей сложности не более 20 километров, остановился на ночёвку.
Подниматься по Верхней Лакуре было не труднее, чем по Чамбе. На третий день даже было легче, так как я наткнулся на тропу и пошёл по ней, периодически проверяя, что она идёт вдоль реки. Нужно было пройти три речных озера.
После того, как я прошёл первое озеро, тропа стала отчётливее, затем раздвоилась. Я решил идти более утоптанной и вскоре вышел к зимовью.
Зимовьё было, что надо и я решил в нём денёк отдохнуть. На следующий день утром обнаружил зимник – отчётливыми параллельные следы от саней, хорошо просматривались особенно там, где они огибали деревья. Затем прошёлся по тропе обратно к её разветвлению, свернул на менее утоптанную тропинку, по которой вышел к Верхней Лакуре, убедился, что она идёт вдоль реки, и вернулся обратно в зимовьё.
На другой день вышел ко второму озеру, обходя которое обнаружил зимовьё, внутри которого на листе фанеры от ящика, лежащем на нарах, было написано «Лазарев». Александр Лазарев говорил мне в Ванаваре, что зимовье есть только на третьем озере Пьюнге.
Интуиция говорила, что это и есть третье озеро, но возникал вопрос, а где же тогда второе? Три дня обходил окрестности озера. Поднимался на окружающие озеро горы с целью рассмотреть сверху его очертания. На карте озеро напоминало головастика, движущегося в воде. И вот я наконец разглядел хвост головастика, оставалось только, для верности найти второе озеро.
Пошёл вниз по течению Верхней Лакуры и вскоре нашёл это озеро, имеющее остров. Оказывается, тропа обошла это озеро по другой стороне «горного хребтика», подступающего к озеру. Теперь всё встало на свои места, и можно было готовиться к основной части своего путешествия.
Во время поиска второго озёра, нашёл на затёсах записи участников двух экспедиций КСЭ с перечнем фамилий участников.
И тут случилось непредвиденное. Два оставшиеся у меня аэрозольных баллончика с репеллентом (средством от комаров), по какой-то причине то ли разрядились в рюкзаке, то ли были бракованными с момента покупки. В основном, только в этом тогда и заключалась вся трагедия моего положения.
Комары кусали с остервенением. Пришлось обмотать лицо и голову полотенцем. Поверх этой чалмы надел кепку, которую не заметил даже, как вскоре потерял. Скорее всего, её просто сбило какой-нибудь веткой.
В итоге я оказался на перепутье. Куда идти? Назад вниз по Верхней Лакуре – не реально. Идти в Ванавару по какой-то подозрительной тропе или зимнику – тоже не выход. Идти через хребет Эвенкийскую Лакуру к Хушме опасно, но, по крайней мере, если свернёшь себе шею, то никто тогда не назовёт тебя трусом.
Последний вариант явно был предпочтительней и к тому же я к нему готовился. Оставалось подняться несколько километров вверх вдоль левого берега Верхней Лакуры, затем резко свернуть на восток и дальше идти строго по компасу до болота, которое на карте было обозначено, как непроходимое.
Вверх по реке поднимался до тех пор, пока её русло не затерялось в камнях, и только после этого решился повернуть на восток.
Комары готовы были сожрать. Я их так нещадно давил обеими руками, что в итоге весь пропах рыбой, к которой больше недели даже не прикасался. Поэтому неожиданно сделал для себя открытие, что рыба пахнет раздавленными комарами, но от этого мне не стало легче.
Боль от укусов комаров была такова, что я ревел, как носорог и даже не обращал внимания на многочисленные кровоточащие ссадины на руках и лице, когда продирался через берёзовый кустарник, периодически преграждавший мне путь.
Когда я подошёл к болоту, которое представляло собой абсолютно ровное пространство с отдельными маленькими берёзками, как бы расставленными равномерно на шахматной доске фигурками по всей площади. Чёрные, покрытые зелёной ряской открытые пространства, обрамлялись высокими торфяными валами, создавая иллюзию устойчивого грунта.
Пробуя идти по торфяным валам, я понял всю бессмысленность этой затеи. Болотный мох местами достигал плеч, под ногами хлюпала вода, и скорость продвижения была такова, что мне могла бы дать фору черепаха.
Взяв в качестве ориентира на противоположной стороне болота чёрный силуэт не то ели, не то лиственницы, резко выделявшейся на склоне хребта, я стал продвигаться вперёд непосредственно по чёрной трясине.
На горизонте была, как мне показалось одна длинная плоская гора. Приглядевшись пристальнее в её очертания, и, учитывая, что высоты отдельных гор хребта Эвенкийской Лакуры имели разницу по отношению к друг другу не более десятка метров и только отстояли друг от друга на разном расстоянии, я, в конце концов, понял, что эта плоская гора впереди и есть хребет Эвенкийская Лакура.
Надо было иметь большое воображение, чтобы определить его отдельные вершины и нацелиться в самую большую лощину между третьей и четвёртой горой, чтобы затем выбрать в ней отчётливый ориентир.
Перед тем как пойти напролом по трясине, я всё-таки в начале подстраховался, привязав верёвку к одной из берёз одним концом, а другим её концом обмотался сам, крепко затянув узел на своей талии.
Затем, робко ступая, пошёл по студнеобразной покачивающейся под ногами массе, на противоположную сторону первой чёрной прогалины между торфяными валами.
Ноги проваливались на глубину подошвы туристических ботинок. Перейдя на противоположную сторону, я пошёл обратно, отступив от цепочки отпечатавшихся в болоте следов на один метр.
Вернувшись назад и отвязав верёвку от берёзы и обмотав её всю вокруг себя, я снова отступил на метр с другой стороны, от первой «дорожки» следов, и вторично пересёк эту же прогалину, напоминавшую бездонную трясину.
Продвигаться вперёд стало значительно легче. Скорость падала, когда я только пересекал торфяные валы, и поэтому отдыхать приходилось через каждые 200-300 метров, когда я достигал очерёдной берёзы.
Оценить ширину болота на глаз в этом месте было трудно, а определить скорость движения тем более.
По крайне мере через два часа выбранный мной ориентир на противоположной стороне болота не стал выглядеть сколько-нибудь отчётливее, но зато очень захотелось пить.
Прорыв небольшую ямку, сразу заполнившуюся киселеобразной жидкостью, я зачерпнул её кружкой и сделал глоток. Пить это пойло не было никакой возможности и пришлось констатировать тот факт, либо нужно остановиться и, прорубив топором колодец, дождаться, когда вся эта растворённая в воде муть из торфа осядет или идти дальше. Сидеть и ждать для того, чтобы напиться не хотелось, и я пошёл дальше.
Продолжая продвижение вперёд по трясине, я всё время старался не делать резких движений. В мозгу сами собой возникли ассоциации, отчётливо воспроизводящие окружающую обстановку и моё душевное состояние…
Сначала описание по памяти не вызывало никаких затруднений, потом стало ясно, что возникли значительные существенные пропуски, без заполнения которых, даже мне стало ясно, насколько была бы велика вероятность свернуть себе шею. Особенно во время пересечения мной, отмеченного на карте, как не проходимое, водораздельного болота, между верховьями реки Верхняя Лакура и притоками реки Хушмы Сераныль и Чавидокон.
Пришлось прекратить писать воспоминания и составлять подробный план всей экспедиции, растянувшейся на два месяца, которая началась в селе Ванавара Эвенкийского национального округа Красноярского края и закончилась в посёлке Ербогачён, на севере Иркутской области.
Сразу стало понятно, что закончить воспоминания, относящиеся к 1972 году, в больнице будет невозможно, а дома в том же виде, мне было понятно, их я уже не буду продолжать, полагаясь только на свою память, а, разумеется, воспользуюсь своими дневниками, перепиской и различными материалами, связанными с событиями того года.
По инерции написав, после составления плана повествования, ещё несколько страниц, остановился на том, как я вышел к непроходимому болоту и определил, что за ним на горизонте, находится хребет Эвенкийская Лакура. Обходить болото справа, точно не зная его конфигурации или по торфяным валам, в которых я местами проваливался в мох по шею, явно было бессмысленно.
Оставалось только идти по студнеобразной чёрной зыби, местами, словно покрытой зелёной ряской, какой-то проступающей сквозь неё болотной растительности, что тоже казалось верхом идиотизма. Ощущение наверно было такое же, как у поэта Франсуа Вийона, в тюрьме перед казнью, не теряющего оптимизма человека. Он тогда написал:
Я – Франсуа, чему не рад,
Увы, ждёт смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.
Константин Коханов, не сделав, по колеблющейся под ним студнеобразной массе болота даже десятка неуверенных шагов, успел перефразировать, те же ощущения французского поэта перед казнью, своими более подходящими, для подобного же момента в его жизни, словами:
Закат багров, цвет губ махров,
И кровь красна, до сини в жилах,
И не спроста, уж будь здоров,
Болот покров пружинит…
С подобным ощущением, что каждый шаг мог оказаться последним, Константин Коханов не менее чем за пять часов пересёк непроходимое болото. Теперь уже все могли убедиться, что не только перед одними евреями могло расступиться Красное море. Получилось так, что и перед простым русским человеком, большую часть лета непроходимое болото, словно в тот день застыло от удивления и ужаса, что кто-то всё-таки смог осмелиться на такой безумный поступок и ещё не совсем опомнившись, поспешно стало стирать со своей поверхности, оставленные им следы…
Я смотрел на пройдённое болото и не сразу понял, что просто вожу ручкой по чистому листу тетради, изображая на нём расходящиеся круги, словно выталкивающие меня из бездны прошлого в повседневную больничную жизнь. Оставалось только сделать кое-какие небольшие исправления и поставить последнюю точку.
Но опять, в который раз, пришлось, прервать, правда, уже теперь редакторскую работу, и идти за лекарством, которое принесла медсестра, поставив его на подносе с лекарствами других больных на столе рядом с входной дверью.
Когда я подошёл к столу, чтобы взять лекарство, то впервые обратил внимание, что у всех, кроме моего, оно было положено в небольшие полупрозрачные пластмассовые стаканчики и заполняло почти половину их объёма, словно играя разноцветными красками, своих редко повторяющихся форм. Стаканчики стояли на бумажках с фамилиями больных, и только мои полтаблетки, были положены на маленькое блюдце. Взявший свой стаканчик Шолохов, посмотрел на блюдце в моей руке и, не скрывая удивления в голосе, спросил:
- И чего это тебя Коханов, так лекарствами, здесь обделяют?
Пришлось, сохраняя по возможности, серьёзное выражение лица, дать короткий, но достаточно убедительный ответ:
- Нет, товарищ Шолохов, это для вас тут не жалеют пургена и снотворного, а вот для меня им действительно целой таблетки героина жаль. Поэтому у Вас так часто после неоднократного за день посещения туалета, бывает такой грустный вид, а у меня, как Вы уже неоднократно замечали, после принятия лекарства с лица целый день не сходит улыбка.
Шолохову видимо ничего оригинального не пришло в голову для ответа, и он пошёл к своей кровати, а я, захватив стаканчик Коли Ясенкова, который в это время спал, отправился сначала к его тумбочке, а потом уже к своей. Там проглотив свои полтаблетки и запив их, из вскрытого ещё утром пакета, яблочным соком, снова прилёг на кровать и продолжил редактирование своих записей, иногда по несколько раз перечитывая одни и те же места. Что-то не нравилось, а где-то слегка поправленный текст заставлял вызвать лёгкий смешок или просто слегка улыбнуться. Со стороны это могло показаться очень странным, и, судя по тому по вопросу, который неожиданно задал мне, лёжа на своей кровати, Шолохов, это им не осталось незамеченным:
- Ну, что Константин, уже подействовало?
Я сначала не понял, что на меня могло подействовать, но, быстро догадавшись, что Шолохов имел в виду только, что принятый мной внутрь «героин», решил продолжить, начатый мной с ним разговор о лекарствах:
- Ещё не совсем, но минут через пять, наверно уже что-нибудь спою, – пообещал я Шолохову, под смех проснувшегося Коли Ясенкова и подошедшего к нему Телицина. Когда я повернул к ним голову, то увидел, что они в это время смотрели в свои стаканчики с таблетками и, рассуждая вслух, старались вспомнить, какие нужно принимать лекарства сначала, а какие потом или как – все сразу или в течение дня.
Пришедшая за подносом медсестра, на их вопросы не смогла дать внятного ответа, сославшись на то, что она из другого отделения, так что посоветовала эти вопросы задать старшей медсестре или лечащему врачу.
Осмотревший меня в этот день, лечащий врач, сказал, что моё здоровье пошло на поправку, хотя, возможно, ещё предстоит проверить почки и сделать кардиограмму.
Перед сном Коля Ясенков, увидев, что я перестал делать записи, неожиданно поинтересовался, чем закончилась проверка финансово-хозяйственной деятельности моего кооператива, которую вторично проводили рекомендованные ОБХСС ревизоры, в связи с поступившей коллективной жалобой на их работу Главное управление внутренних дел или, проще говоря, на Петровку, 38.
– Да, собственно говоря, ничем, – ответил я Николаю, – получил оттуда ответ в две строчки. На первой строчке было написано «Уважаемый Константин Парфирьевич! – а на второй, что «проверкой финансово-хозяйственной деятельности, состава какого-либо преступления не обнаружено». – Так что Николай, председателю ревизионной комиссии кооператива Риттенбергу Давиду Соломоновичу, даже с обращением за помощью к Михаилу Горбачёву, чтобы в отношении меня устроить показательный политический процесс, оказалось недостаточно компромата. – А дальше уже ему было не до меня – перестройка закончилась перестрелкой, но, как шутили в то время, – хорошо ещё до переклички не дошло. – Но, зато, как только дело дошло до развала СССР, Давид Соломонович, плюнул на свой большой партийный стаж и многолетнюю практику преподавания «Истории КПСС», сразу перебрался в США, где таких специалистов по научному коммунизму, как он, всегда было недостаточно. И как мне однажды, сказал бывший член правления Витя Трынкин, узнав, где теперь обосновался наш «кристально чистый товарищ», – он, наверно, и в Америке, нашёл на кого писать жалобы, по поводу засора в его унитазе, но теперь уже в адрес Президента США.
Через два года после развала СССР, ко мне наведалась домой, очередная инициативная группа по проведению отчётно-перевыборного собрания кооператива и предложила снова стать председателем правления. Мне было приятно услышать, в том числе и от тех лиц, которые шесть лет назад, сделали всё от них возможное, чтобы привлечь меня к уголовной ответственности, каким я был хорошим председателем кооператива, но от предложения, снова им стать, вежливо отказался.
Спустя ещё два года, уже другая инициативная группа, повторила попытку снова уговорить меня стать председателем правления, теперь даже получая зарплату, и я понял, что ту работу, которую я выполнял бесплатно, теперь никто не хотел выполнять даже за деньги. Хотя для того, чтобы просто получать деньги, ничего не делая и ни за что, не отвечая, в кооперативе до сих пор хватает на должность председателя правления, достойных кандидатур.
13 ноября 1997 года. Я думал, что наверно пролежу в больнице ещё дня два, но утром, после завтрака, ко мне подошла старшая медсестра и сказала, что у меня сегодня выписка в 12 часов дня. И дальше уже командным голосом, потребовала, чтобы я собрал вещи и освободил палату, так как в третье кардиологическое отделение поступили новые больные, которых уже негде размещать.
- Извините, а это Вы мне не могли, сказать ещё вчера вечером, чтобы я успел предупредить по телефону жену, принести мне сегодня утром тёплую куртку и зимние ботинки, чтобы переодеться и не ехать домой в летней одежде и обуви, в которой меня сюда привезли?
Старшая медсестра, которая плохо скрывала ко мне своё негативное отношение, после моего с ней разговора 9 ноября 1997 года по поводу соблюдения больничного режима, связанного с включением телевизора в часы, отведённые больным для ночного сна, отчётливо, выговаривая каждое слово, ответила:
- Меня… это… не касается, – и добавила, что пока она будет оформлять мой бюллетень, чтобы я позвонил жене и, в указанное время, покинул палату.
- И что, мне так и сидеть в коридоре, и до восьми часов вечера ждать, пока жена после работы из центра Москвы, доедет до дома в Орехово-Борисове, возьмёт там мои вещи и приедет с ними за мной в больницу?
Медсестра, наверно ещё продолжила бы проявлять ко мне всё своё беспробудное безразличие, стараясь продемонстрировать всем своим видом и остальным больным в палате, что ей вообще на всех наплевать, но тут в разговор вмешались Шолохов и Ольховцев, с вопросом, – где они могут найти заведующего третьем кардиологическим отделением? Или она может сама его пригласит в палату, чтобы поговорить о работе медперсонала его отделения?
- И меня с собой возьмите, – сказал, вставая с кровати, Телицин, а тут ещё вошедший в палату Сергей Волошинов, которого вызывали на какие-то процедуры, задал вопрос, – по поводу чего тут устроили митинг, как в Останкино?
- Неужели, кто-то попросил «Чапаева» больше на НТВ не показывать, как фильм оскорбляющий «белое движение» и чувства родственников погибших белогвардейцев?
Старшая медсестра, воспользовавшись тем, что все на секунду отвлеклись на вошедшего в палату Сергея Волошинова, быстро покинула палату, а я, поблагодарив своих друзей «по несчастью», за поддержку, стал, не спеша, разбираться, что взять с собой назад из вещей домой, а что оставить в больнице.
Окинув взглядом палату, я на всякий случай нарисовал её план, с указанием на кроватях фамилий больных. На одной из кроватей, я фамилии больных так и не узнал, – это «Шапки», и сменившего его там бизнесмена, который большую часть времени пролежал под капельницей и поэтому общения у меня с ним, по сути, не было.
Закончив короткие сборы, я достал из холодильника пакет с фруктами и отдал его Коле Ясенкову. Появившаяся вскоре медсестра отдала мне оформленный бюллетень, в котором я обнаружил две ошибки, но не стал ей на них указывать и тем более требовать немедленно их исправить. Просто улыбнулся и сказал, что всё в порядке и что я сейчас покину палату.
Но тут, уже было чему удивиться всем. Оказывается мне не зачем было торопиться.. Заведующий кардиологическим отделением, попросил её передать мне, что я могу оставаться в палате до тех пор, пока за мной не приедет жена.
Поблагодарив за такую «заботу» обо мне старшую медсестру, я попрощался с товарищами по несчастью, и, учитывая, что на улице было, не так уж прохладно, спустился в вестибюль больничного корпуса, откуда позвонил своему товарищу Михаилу Селиванову, который жил на одной из соседних с больницей улиц. Михаил с женой Ритой были не только дома, но и рады были меня встретить у себя.
Уже около выхода из больничного корпуса на улицу, я увидел дочь Писеева Люду, которая говорила с одной из своих родственниц, навестивших её отца. Увидев меня, Люда сразу же прервала разговор и, пожелав мне больше не болеть, сказала, что без меня в палате, наверно, уже будет не так весело. И я пожелал ей тоже не терять надежды и надеяться, что у отца, не только сбудется мечта посмотреть на пузырьки шампанского, но даже представится возможность его выпить, вместе с ней, за предстоящий 1998-й, может быть самый счастливый, Новый год.
Неужели снова наступило время Казимира Малевича
14 ноября 1997 года. Утром дома, включив компьютер и разложив на столе тетрадки с воспоминаниями о своих путешествиях в 1971-1972 годах, сначала решил пролистать тетрадку с краткими записями о больничной жизни, большей частью сделанных наспех и часто, как иногда говорят, оборванных на полуслове. В голове сразу возникла идея, использовать эти записи в качестве введения к своим воспоминаниям и своеобразного фона, на котором должны были разворачиваться события двадцатипятилетней давности.
Поэтому, отложив тетрадки с воспоминаниями, написанных в больнице в «чистом» виде (разборчивым почёрком, с минимальным количеством исправлений) в сторону, я приступил к работе над введением, и, озаглавив его как «Больница №53», изложил в течение дня, примерно на десяти страницах напечатанного на компьютере текста, события первых дней моего пребывания в больнице.
Намереваясь на следующий день продолжить описание своего пребывания в больнице, я, перечитав, напечатанный текст, неожиданно обратил внимание на странную закономерность относительно того, что хорошо сохранилось в памяти, а что просто, как будто было стёрто, и не оставило не малейших следов.
Хотя прошёл только один день, как я вернулся домой и описание, касалось только событий десятидневной давности, в памяти хорошо сохранились не только лица больных, но даже присущий каждому тембр голоса, мимика, походка и многое из того, что касалось моих разговоров с ними и даже то, что они мне успели рассказать. И в тоже время, совсем не сохранились в памяти ни одного лица, из заходившего в палату дежурного медицинского персонала, даже лицо лечащего врача врачей, не говоря уже о лицах, делавших мне уколы медсестёр.
Создавалось впечатление, что совсем не было лиц у этих с виду похожих на людей, явно искусственных созданий, выполнявших по какой-то бездушной программе необходимые по уходу за больными действия, совершенно не придавая при этом значения, на пользу эти действия больному или наносят ещё больший вред, чем отсутствие самого лечения, вообще.
Всё это мне напоминало, уже виденное когда-то, но я ни как не мог уловить, где, когда и при каких обстоятельствах. Поэтому я не сразу догадался, что это впечатление у меня осталось от телепередачи, посвящённой творчеству Казимира Малевича в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, где ведущий программы, говоря о его картинах с изображениями людей без лиц, сказал, что так художником было отражено время, которое тогда переживала Россия.
Пришлось посмотреть, что у меня есть в библиотеке о творчестве Казимира Малевича в тот период времени.
Как и следовало ожидать, советская власть отнеслась к творчеству Казимира Малевича с большим подозрением и на всякий случай, дважды, в 1927 и 1930 году подвергала аресту. К счастью для художника, за него в то время было ещё, кому заступиться и пребывание в тюрьме было недолгим, но ещё неизвестно, что для него было в жизни хуже, тюрьма или обстановка в конце жизни, в состоянии полной социальной изоляции.
Отсюда на его картинах полная безликость, дух одиночества и пустоты пространства, за спинами его крестьян в виде однотонного цветного фона или пустых полей.
Если потому, как говорил товарищ Сталин, – жизнь стало лучше, жить стало веселей, – то по картинам Казимира Малевича это было совсем незаметно. Никакого веселья на лицах людей, потому что на его многих картинах в то время у людей вообще не было лиц.
Может даже хорошо, что Малевич умер от болезни в 1935-м году, на чёрном фоне своих картин, а не в лагерном бараке в 1937-ом, даже не увидев, а, только почувствовав, как пробившись сквозь щель в мрачном потолочном перекрытии, последний луч света, коснётся его лица…
Неужели снова вернулось время Казимира Малевича? – мелькнула в голове нехорошая мысль, которая полностью отбила охоту, что-то ещё писать дальше.
Немного ещё поразмышляв, что делать дальше, я сохранил копию сделанных в тот день записей на дискете. Потом взял большой пакет, положил в него тетрадки с написанными в больнице воспоминаниями вместе с дискетой, подписал его «Палата №301» и положил на дно одного из ящиков письменного стола.
К этим записям я вернулся почти через десять лет, задавшись целью выпустить небольшой сборник своих стихотворений и песен, когда понадобилось сделать комментарий к романтическому периоду своих первых путешествий, которому была посвящена большая часть моего поэтического творчества.
Ещё через пять лет, случайно наткнувшись на пакет со своими записями в больнице и перечитав, сделанные там наспех записи, я уловил некоторую аналогию с тем, что происходит с людьми сейчас. Особенно с их лицами, доходящими почти до полной безликости, или как на картинах Казимира Малевича, до полного их отсутствия и неприятного ощущения, что у многих известных мне людей, вообще, не было лиц, никогда.
Рассматривая картины Казимира Малевича, я выделил две картины 1928-1930 годов «Крестьяне», которую воспринял, как изображение безруких дежурных врачей и «Женщин в поле», бездушных медсестёр, как безликих женоподобных механизмов с опущенными вниз манипуляторами, которые выполняли функции, ничего не умеющих хорошо делать, рук.