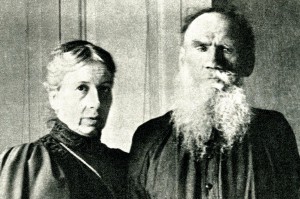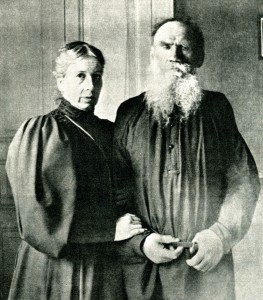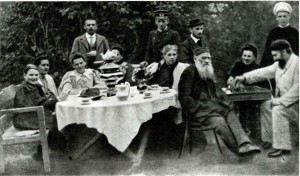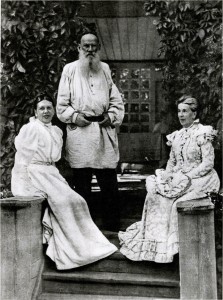Константин Коханов:
Что сонату Крейцеру, Лев Толстой не думал,
Посвятил Бетховен, не для повестей,
И придал он повести, смысл сонаты сдуру,
Где любовь лишь похоть, с кем-то лечь в постель.
Страсть к жене остыла ведь, надоели роды,
Чёртова их дюжина, полон дом детей:
Про «обет безбрачия», речь Толстой заводит,
А жена поклонников, ищет средь гостей.
Ей бы музыканта, но не Гольденвейзера,
Творчество Танеева, душу бередит,
И спасать его, и в омут ведь, полезла бы,
Зная никогда, что с ней, он не переспит.
Несмотря на поразительные достоинства поэтических произведений Толстого, он не им обязан своею мировою славою и своим влиянием на современников. Его романы, правда, были признаны выдающимися произведениями, но в течение десятилетий и «Война и мир», и «Анна Каренина», ни менее объемистые его повести и рассказы не находили обширного круга читателей вне России, и критика далеко не безусловно восхваляла их автора….
…Только его «Крейцерова соната», появившаяся в 1889 году, доставила его имени мировую известность; только этот маленький рассказ был переведен на языки всех цивилизованных народов, распространился в сотнях тысяч экземпляров и был прочитан с сильным душевным волнением миллионами людей. С этого момента общественное мнение на Западе отводит Толстому место в первом ряду современных писателей, его имя находится у всех на устах, прежние его произведения, не обращавшие на себя особого внимания, возбуждают всеобщий интерес. Этот интерес распространился на его личность и судьбу, и на склоне лет Толстой, так сказать, в одно прекрасное утро стал одним из главных представителей истекающего (XIX) столетия.
(Макс Нордау, «Вырождение» 1892, перевод с немецкого 1894., М., Республика, 1995)
Водоворот Крейцеровой сонаты
Эту сонату для скрипки и фортепьяно знаменитый немецкий композитор, пианист и дирижер Людвиг ван Бетховен (1770-1827) посвятил профессору игры на скрипке парижской консерватории Рудольфу Крейцеру (1761-1831).
И кто бы мог подумать, что рассказанная в 1887 году Льву Толстому реальная история о том, как муж из ревности убил жену, у него выльется в повесть. И то, что эта история, в её окончательной редакции, где любовник жены будет выведен музыкантом (скрипачом), с которым она изменяет, под влиянием совместно исполняемой Крейцеровой сонаты Бетховена, бумерангом ударит по нему самому, он врядли мог не только представить, но и увидеть ни в одном из своих страшных снов.
Следует отметить о том, что вся повесть была пропитана неудовлетворенностью супружеской жизнью самого Толстого, сразу поняла даже его жена Софья Андреевна, с иронией отметившая в своем дневнике, что во время работы над Крейцеровой сонатой, где её муж напоказ выставлял свою антисексуальность, в постели же, наоборот, отличался особенной пылкостью.
Даже в самой проповеди Льва Толстого о том, что по моральным причинам мужчина и женщина даже в браке должны жить как брат и сестра, прослеживалась глухая зависть Иоанну Кронштадтскому, который этому принципу уже следовал, (к ужасу жены, и неодобрении церкви). Сам же «великий проповедник» этой морали не только не запятнал свою супружескую жизнь половыми сношениями, но каждый свой прилюдный обет целомудрия, в итоге прерывал очередной беременностью своей супруги, «горько раскаиваясь», но, все равно, продолжая призывать других, следовать этому нравственному закону. И, как не трудно было предвидеть, нашлась группа молодых людей, которым проявить себя, больше, было нечем, не настолько наивная, как могло бы показаться, что стала буквально, (скорее публично), следовать его нравственным заповедям. Хотя эта группа и привлекла к себе внимание общественности (чего и добивалась), но, как ни странно, «её воздержание», на самого Толстого, произвело удручающее впечатление.
Как тут не согласиться с Янко Лавриным, который обратил внимание в своей книге («Лев Толстой», стр.155) на то, что «та радикальность, с которой Толстой нападал на половую жизнь, служила доказательством тому, что, не смотря на свой немолодой уже возраст, он по-прежнему был вынужден бороться со своим половым влечением, причём борьба эта была безнадежной и отчаянной».
Постоянное в те годы обращение Толстого к своему Богу, помочь ему, в итоге возымело действие, видимо оттого, что даже повесть Софьи Андреевны, написанная в качестве ответа на Крейцерову сонату и произведение его сына Льва Львовича «Прелюдия Шопена», имеющее противоположный сюжет, не вызвали сомнений великого писателя в своей правоте.
Поэтому, наверно, Всевышний, и поставил Толстого в положение героя Крейцеровой сонаты, для того чтобы тот пополнил арсенал собственного жизненного опыта, и хотя бы, отчасти, испытал, что тот проповедует, на собственной шкуре.
Ниже, где указана только страница без ссылки на источник, цитируется текст «Крейцеровой сонаты» из наиболее доступного и дешёвого собрания сочинений Л.Н.Толстого в 12-ти томах (М., Художественная литература, 1958 г, том 10, стр. 267-341). \\
Описывая жизнь своего героя, разве не сам Толстой восклицает: «Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушки…
Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счёл достойной себя. Это была одна из двух дочерей когда-то богатого, но разорившегося пензенского помещика» (стр.281).
После описания последнего свидания героя повести (Василия Позднышева) со своим идеалом, Толстой показывает, как тот принял решение жениться: «Я вернулся в восторге домой и решил, что она верх нравственного совершенства и что потому-то она достойна, быть моей женой, и на другой день сделал предложение» (стр.282).\\
Интересно, что в Крейцеровой сонате, Позднышев, как истинный джентльмен, еще перед свадьбой признается своей невесте, какую он вёл раньше распутную жизнь (тоже сделал и сам Толстой):
«Помню, как уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное – про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других и про которую я потому-то и чувствовал необходимость сказать ей.
Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего не бросила!» (стр.289).
Иван Бунин приводит ответ писателя Петра Дмитриевича Боборыкина (1836-1921), на заданный тому вопрос о фактических доказательствах «великого сладострастия» Толстого:
«Этих доказательств сколько угодно. И, прежде всего, - в его исповедях о своей молодости, ну, хотя бы в тех ужасных дневниках, которые он имел какую-то жестокость дать прочитать Софье Андреевне, несчастной девочке, накануне своей свадьбы с ней» (Иван Бунин, «Освобождение Толстого», стр.404).
Как бы там не было, герой повести Толстого женился и что же: «Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении к друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого (стр.293).
И апофеозом всей семейной жизни было отчаяние Позднышева (как видно из биографии и самого Толстого), оказавшегося в положении, из которого, как казалось ему, не было, чем-то оправданного, выхода:
«В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаваться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от других, но от себя.
Теперь я удивляюсь, как я не видел своего настоящего положения. Его можно бы уже видеть потому, что ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не поспевал подделать под постоянно существующую враждебность друг другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда…ох! Гадко и теперь вспомнить – после самых жестоких слов друг другу молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия.… Фу, мерзость! Как я не мог не видеть всей гадости этого тогда…(стр.295).
Далее мы узнаем, что герой повести Позднышев, как и сам Толстой полностью познал женщин: «Женщина счастлива и достигнет всего, если обворожит мужчину. И потому главная задача женщины – уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире, так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней – для властвования над мужем.
Одно это прекращает или хоть подавляет на время это, это – дети, и то тогда, когда женщина не урод, то есть сама кормит. Но тут опять доктора.
С моей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье.
Доктора эти, которые цинично раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, – доктора эти милые нашли, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело.
Дело в том, что в самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной силой проявились мучения ревности, которые, не переставая, терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то есть безнравственно (стр.299-300).
И теперь, самое главное, как влияли на жизнь героя повести дети, которые, по его мнению, являлись той уздой, которая удерживает женщин, мягко говоря, от кокетства:
«Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня, не радость, а мука. Как же не мучаться? Она и мучалась постоянно. Бывало, только что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать; только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь, ну и конечно, жизни уж нет. Куда скакать, за какими докторами, куда отделить? И начинаются клистиры, температуры, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной твердой семейной жизни не было. А было, как я вам говорил, постоянное спасение от воображаемых и действительных опасностей. Так ведь это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чадолюбива и легковерна.
Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети – это был для нас новый повод к раздору. С тех пор как были дети и чем больше они росли, тем чаще именно сами дети были и средством и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок – орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них.
Девочка была моя сторонница, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне (стр.305).
Но все же, муж и жена в «Крейцеровой сонате» нашли временный выход из своего положения: «На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца.
О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими; но она была противного мнения, и уступить – значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят перед нею…
Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство – пьянство службы, охоты, карт. Мы оба были постоянно заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. Тебе хорошо гримасничать, – думал я на нее, – а ты вот меня промучила сценами всю ночь, а мне заседанье. Тебе хорошо, – не только думала, но и говорила она, – а я всю ночь не спала с ребёнком.
Так мы и жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался (стр.306-307).
И помешал этой идиллии семейной жизни банальный переезд на местожительство из имения в город: «Ну и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет, и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, все занято. Дела общественные отношения, здоровье, искусства, здоровье детей, их воспитание…
Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее никому незаметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы (врачи) не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни – дети – было отнято, и жизнь стала еще гаже…
Это безобразные девки и солдатки бросают детей в пруды и колодцы; тех понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас все делается своевременно и чисто. Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней не рожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 99% наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно (стр.308-309).
К ужасу Позднышева это привело к тому, что его жена, «благодаря услужливым докторам» поняла, что можно обойтись и без детей: «Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, – для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем была уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере, я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то…(стр.310).
И вот жена Позднышева, наконец-то, обратила внимание на человека, с которым ее тот сам же и познакомил, и произошло это в то самое время, когда отношения в семье, обострились настолько, что жена делала попытку отравиться, а тот даже брал заграничный паспорт: «Дрянной он был человек, на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что действительно был такой. Впрочем, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она…
Отец его – помещик, сосед моего отца. Он – отец – разорился, и дети – три мальчика – все устроились; один только, меньшой этот, отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому, что он был талант к музыке, и он вышел оттуда скрипачом и играл в концертах. Человек он был… Ну, уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне.
Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. Лезущий в фамильярность насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усвоивают себе иностранцы в Париже и что по своей особенности, новизне, всегда действует на женщин. В манерах деланная, внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, как будто вы все: это знаете, помните и можете сами дополнить. Вот он-то с(о) своей музыкой был причиной всего…(стр.311).
Далее Позднышев уточняет, как произошла эта встреча: «Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на «ты». Он попытался серединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но, странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою. Но нет, я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что, напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет.
Удивительное дело! Мои отношения к нему в первый день, и первый час моего свиданья с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним: я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность. Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокоюще красива.
Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла мое чувство и изменила свое выражение, и началась эта игра взаимного обманыванья. Я приятно улыбался, делал вид, что мне очень приятно. Он, глядя, на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали её.
Я видел, что с первого же свиданья у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно вследствие моей ревности, между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела – и он краснел, она улыбалась – он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтоб уезжать, и, улыбаясь, со шляпой на подрагивающей ляжке стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем… (стр.316).
Не смотря на то, что присутствие нежданного гостя очень мучило, он, чтобы не показать, что боится его, уже в передней, зная, что жена слышит, предложил ему приехать со скрипкой к ним сегодня же вечером: «Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений».
Позднышев очень любил музыку и, сочувствуя им, «устраивал пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонату Моцарта.
Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру. Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же, хотя и притворялся заинтересованным музыкой, и весь вечер, не переставая, мучался ревностью. С первой минуты как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» – и ответил: «О да, очень».
Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому. Потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого, но я, так же как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе как по писаному.
Мучался я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней элегантности и новизне и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а, несомненно, без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать, из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно.
Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли, или для него я это делал, чтоб показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтоб обмануть самого себя,– не знаю, только, я не мог с первых же, сношений моих с ним быть прост. Я должен был, для того, чтобы, не отдаться желанию, сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою (стр.316-118).
Когда скрипач появился в доме Позднышева, без его приглашения, он, хотя и не поверил объяснениям жены, сделал вид, что этому верит, из боязни предстать перед людьми в смешном виде: «Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с(о) своей пациенткой, близости при занятии искусством, а – главное музыкой».
Позднышев прекрасно понимал, как и все, «что именно посредством этих занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний…» (стр.319).
Понятно, что когда Позднышев сказал своей жене, что ему на следующей неделе нужно выехать в уезд, для участия в съезде и та за обедом, поинтересовалась, какого именно числа, нервы его не выдержали, и он устроил бурную сцену ревности, как только оказался с женой наедине. Это привело к тому, что: «Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел; она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна. К утру, она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью. Утром, когда после примирения я признался, что ревновал ее к скрипачу (Трухачевскому), она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась.
Так странна, даже ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку. Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой?
Да если хочешь, я готова никогда не видеть его. Даже в воскресенье, хотя позваны все. Напиши ему, что я нездорова, и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это.
И она ведь не лгала, она верила в то, что говорила; она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него…» (стр.322).
В воскресенье Позднышев, занялся устройством обеда и вечера с музыкой, и ему показалось при появлении скрипача, что ревновать было не к чему: «К шести часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на все отвечал поспешно с улыбочкой согласия и понимания, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучался уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть; во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я все-таки был ненатурален с ним, и с нею и во время обеда и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих.
Обед был как обед, скучный, притворный, Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера; помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой покрышку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно-равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость – робость преимущественно перед своим умением,– с притворным видом села за рояль, и начались обычные 1а на фортепиано, пиччикато скрипки, установка нот.
Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу, и началось. Она взяла первый аккорд. У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами, дернул по струнам и ответил роялю. И началось…
Они играли Крейцерову сонату Бетховена… Страшная вещь эта соната, особенно её первая часть, в быстром темпе (престо). Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом, – вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося.
Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в крутое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, – это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого.
И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, про- пели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении.– нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть эту Крейцерову сонату, первое престо, разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам…?» (стр.324-325).
Позднышев продолжает рассуждать о Крейцеровой сонате, как она на него подействовала. Ему и ужасно и радостно, оттого, что открылись совсем новые чувства, новые возможности, о которых он не знал до сих пор: «Всё те же лица, и в том числе жена и он, представлялись совсем в другом свете…
Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видел такою, какою она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность, какая-то слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили…
Вечер кончился благополучно, и все разъехались. Зная, что я должен через два дня ехать на съезд, скрипач (Трухачевский), прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно… (стр.325-326).
Герой повести в хорошем настроении отбывает на съезд и два дня погрузившись в работу, ни о чем больше другом не думает пока не получает от жены письмо. В письме, между прочим, говорилось и о скрипаче, который заходил, чтобы принести ноты, но и этого ему оказалось достаточным, чтобы почувствовать, что «бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре», готовый в любую минуту выскочить наружу.
В ту ночь Позднышев неожиданно проснулся, с мыслью, о существующей между его женой и скрипачом связи. И здесь так переплетаются чувства героя повести с тем, что Бог затем дал почувствовать самому Толстому, что от прямого цитирования дальнейших частей повести приходится переходить, как бы к их полному пересказу, но уже от третьего лица.
«Ужас и злоба стиснули его сердце. И он стал образумливать себя. Что за вздор, – нет никаких оснований, ничего нет, и не было. И как он может так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы. Что-то вроде наемного скрипача, известного за дрянного человека, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, его жена! Что за нелепость! – представлялось ему с одной стороны. Как же этому не быть? – представлялось ему с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего он женился на ней, то самое, во имя чего он с ней жил, чего одного в ней нужно было ему и чего поэтому нужно было и другим и этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый (вспомнил, как тот хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий и не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удержать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Даже он муж не знает ее. Знает ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удержать.
Только теперь он вспомнил их лица в тот вечер, когда они после Крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помня кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. Как он мог уехать? – говорил он себе, вспоминая их лица. Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? и разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними? Вспомнил, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда он подошел к фортепиано, Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Он с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный им их взгляд с чуть заметной улыбкой. Да, все кончено,– говорил ему один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое. Это что-то нашло на тебя, этого не может быть, – говорил этот другой голос. Ему стало жутко лежать в темноте, он зажег спичку, и ему как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Он закурил папироску и, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу не разрешающихся противоречий, – куришь, и он курил одну папироску за другой, для того, чтобы затуманить себя и не видеть противоречий.
Герой повести так и не смог больше заснуть в ту ночь и уже в пять часов утра, разбудил и отправил, прислуживающего ему сторожа, за лошадьми. В восемь часов он уже был в тарантасе. Ехать ему предстояло тридцать пять верст и восемь часов на поезде. Но поломка тарантаса на середине пути привела к тому, что герой повести прибыл в Москву не в пять часов вечера, как рассчитывал, а в двенадцать часов, и подъехал к своему дому в первом часу ночи.
«Может оттого, что, сев в вагон, он живо представил себя уже приехавшим, или оттого, что железная дорога так возбуждающе действует на людей, но только, с тех пор как он сел в вагон, он уже не мог владеть своим воображением, и оно не переставая с необычайной яркостью начало рисовать ему разжигающие его ревность картины, одну за другой и одну циничнее другой, и все о том же, о том, что происходило там, без него, как она изменяла ему. Он сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них; не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более он созерцал эти воображаемые картины, тем более он верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись ему эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что он воображал, было действительность. Какой-то дьявол, точно против его воли, придумывал и подсказывал ему самые ужасные соображения. Ему вспомнился давнишний разговор с братом скрипача, и он с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к скрипачу и своей жене.
Это было очень давно, но он вспомнил это. Брат скрипача, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину, И вот он, его брат, нашел его жену. Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку и есть пухлость некоторая, – думал он за него, – но что же делать, надо пользоваться тем, что есть. Да, он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, – говорил он себе. Притом она безопасна. Нет, это невозможно! Что я думаю? – ужасаясь, говорил он себе. Ничего, ничего подобного нет. И нет даже никаких оснований, что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила ему, что ей унизительна даже мысль о том, что он может ревновать к нему? Да, но она лжет, все лжет!» – тогда вскрикивал он, и все начиналось сначала…
Позднышев испытывал нетерпение, вскакивал, подходил к окнам, то, шатаясь, начинал ходить, стараясь подогнать вагон…
Страдания были так сильны, что, ему пришла мысль, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда, по крайней мере, он не будет больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собой вызывавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти и сознания своего унижения и его победы, но к ней страшная ненависть. «Нельзя покончить с собой и оставить ее; надо, чтоб она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла, как он страдал…(с изменениями, стр.329-331).
И вот теперь, когда он подъехал к крыльцу, то, «не отдавая себе отчета в том, почему есть свет так поздно в его окнах, он в том же состоянии ожидания, чего-то страшного, взошел на лестницу и позвонил. Лакей отворил дверь и «первое, что бросилось ему в глаза в передней, была на вешалке, рядом с другим платьем, шинель скрипача. Он должен был удивиться, но не удивился, точно он ждал этого.… Отправив лакея с квитанцией на вокзал за своими вещами, он, закрыв за ним дверь, и с тем, чтобы скорее застать их, на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую….
Первое, что он сделал, это снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене, где над диваном, висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый…. Потом он снял пальто, и мягко ступая, пошел к ним.
Когда он, подкравшись тихо, отворил дверь, то ему доставило мучительную радость, выражение отчаянного ужаса на их лицах, хотя оно только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет? Если можно, то надо начинать…
Скрипач вопросительно взглянул на жену героя повести и выражение досады и огорчения, на ее лице, как тому показалось, сменилось заботой о музыканте.
В это же мгновение скрипач улыбнулся и до смешного равнодушным тоном сказал: «А мы вот музицировали…», а жена, тем же тоном добавила: «Вот не ждала…». Но ни тот, ни другой не договорили: то же самое бешенство, которое он испытывал неделю назад, вновь овладело им….
Позднышев бросился к жене и хотел ударить кинжалом в ее бок под грудью, но скрипач помешал этому, схватив его за руку. Когда же тот, освободив руку, молча бросился на скрипача, то жена, дала возможность тому спастись бегством, повиснув на левой руке мужа. Муж, вырывая левую руку, размахнулся и изо всех сил ударил жену локтем в лицо…
Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленное им лицо, смотрела на него, со страхом и ненавистью, как на врага.
Это был тот самый страх и ненависть к мужу, которые должна была вызвать только любовь к другому человеку. Если бы жена молчала, но она вдруг начала говорить и хватать его рукой за руку с кинжалом: «Опомнись! Что ты? Что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего…. Клянусь!»
Он бы и еще помедлил, но эти последние слова, по которым он заключил обратное, то есть, что всё было, заставили его завопить: «Не лги, мерзавка!» и схватить ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки он, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло. Опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была…. Она же схватилась обеими руками за его руки, стала отдирать их от горла, а он как будто этого только ждал, ударил ее изо всех сил кинжалом в левый бок, ниже ребер. Он услышал и почувствовал мгновенное противодействие корсета и еще чего-то, и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала….
Воткнув кинжал, он тотчас же его вытащил его, словно желая поправить сделанное и остановить. Затем он секунду стоял неподвижно, ожидая. Что будет, можно ли поправить. Она же вскочила на ноги, вскрикнула: «Няня! Он убил меня! Услыхавшая шум няня стояла в дверях. Но тут из-под ее корсета хлынула кровь, и он понял, что ничего поправить нельзя, что и не нужно, что этого самого он и хотел, и должен был сделать.
Он подождал, пока она упала и няня с криком: «Батюшки! – подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и вышел из комнаты… (взято из текста в сокращении, с некоторыми несущественными изменениями, для связки по смыслу его отдельных частей, стр.322-338).
И вот 12 февраля 1891 года Софья Андреевна (еще не догадываясь, что вскоре сама станет героиней этой драмы, не где-нибудь в провинциальном театре, а в жизни своей семьи) в своем дневнике намекает, что и у нее есть, что скрывать, сквозь раздражение, вызванное Крейцеровой сонатой: «Я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами. И все это, не быв виноватой перед мужем ни в одном движении, ни в одном взгляде на кого бы то ни было во всю мою замужнюю жизнь!
Была ли в моем сердце возможность любить другого, была ли борьба – это вопрос другой – это дело только мое, это моя святая святых, – и до нее коснуться не имеет никто в мире, если я осталась чиста».
Дочь Толстого Татьяна Львовна в своих воспоминаниях («О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода») пишет, что «в 1895 году произошло событие, имевшее огромное и роковое влияние на характер моей матери. Несчастьем, перевернувшим всю ее жизнь, была смерть (22 февраля 1895 года), маленького семилетнего Ванечки ее последнего ребенка…. Отчаяние матери было так глубоко, что она едва не лишились рассудка. Вначале она пережила период религиозной экзальтации и много времени проводила в молитве и церкви…, а затем, …неожиданно нашла в музыке занятие и развлечение, которое ее облегчало. Пребывание в Ясной Поляне одного из наших друзей – пианиста Танеева послужило толчком для произошедшей в ней перемены».
Знакомство семьи Толстого с Танеевым, произошло задолго до этой трагедии, еще с зимой 1889 года. А в 1895 году, все лето, с 3 июня по 27 августа, с перерывом на две неделе в июле, этот известный пианист и композитор проживал во флигеле яснополянского дома.
На Софью Андреевну сильно подействовала музыка Сергея Ивановича Танеева (1856-1915) и его исполнительное искусство. Хотя она говорила, что на ее настроение, сама личность Танеева, не оказывала воздействия, у Толстого сложилось другое мнение, и он стал тяжело переживать «взволнованный интерес» жены к этому композитору, особенно, когда тот стал частым посетителем его дома.
Поскольку Софья Андреевна даже в пожилом возрасте сохраняла внешнюю привлекательность, ей приходилось терпеть не только сексуальные порывы своего супруга, но и всю тяжесть морального похмелья Толстого-пуританина (Янко Лаврин, «Лев Толстой», стр.157).
Поэтому версия окружающих о затянувшейся связи Софьи Андреевны с Танеевым по причине смерти Ванечки, Толстого вскоре перестает устраивать. В его голову без конца лезут мысли о причинах подобного отношения, подобные мыслям Позднышева:
«В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе пятидесятилетней (в тексте тридцатилетней) не рожающей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 99% наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно.
Я намеренно слегка увеличил возраст Софьи Андреевны, с тем чтобы, подчеркнуть период их совместной жизни, когда ревность Льва Николаевича, стала отражаться на его душевном состоянии, как неизлечимая болезнь.
Толстой начал работать над Крейцеровой сонатой в октябре 1887 года, последняя редакция им была сделана 5 декабря 1889 года, и, наконец, повесть была опубликована в 1891 году. Из приведенных мной отрывков Крейцеровой сонаты, каждому не трудно догадаться о ком там, в действительности, идёт речь. Если найдется тот, кто ещё не понял, отвечу, что о самом Льве Николаевиче и Софье Андреевне с ретроспективой на будущее, которое представлялось тогда Толстому в столь мрачном свете, что он не исключал и столь решительных действий со своей стороны. Возможно, уже тогда у Толстого проявилась болезненная ревность, к увлечению (интересу) супруги неприятными ему людьми, которые имели отличное от него мнение и тем более считали возможным, при нём, шутить над его идеалами.
Не прошло и пяти лет, после окончания Крейцеровой сонаты, словно исполняя мечту Толстого, увидеть себя персонажем своего же произведения, в его жизнь вошёл композитор и талантливый пианист Сергей Иванович Танеев (1856-1915).
Возможно, особенное обострение интереса к музыке у Софьи Андреевны произошло с появлением в её доме 20 января 1895 года ещё одного пианиста, Александра Борисовича Гольденвейзера (1875-1961), которому тогда было не многим более 20 лет. И нужно отметить, что с появлением в окружении Льва Николаевича Толстого пианиста Гольденвейзера и в его жизни стало заметно юольше отводиться места музыке и разговорам об искусстве. В зиму этого года Танеев даже отметит в своём дневнике, что Софья Андреевна становится «консерваторской дамой». В то же время и в дневнике, и в записных книжках, и в письмах Льва Николаевича, появляются все новые мысли об искусстве, но он решает возвратиться к Коневской повести (сюжету из практики юриста Кони), за которой закрепляет окончательной название «Воскресение».
21 февраля 1896 года с дочерью Татьяной Толстой уезжает в Никольское к Олсуфьевым, и там 22 февраля, больной инфлуенцей, в дневнике отмечает об «упадке духа», обращаясь с молитвой к Богу. Отвечая на письмо Софьи Андреевны, подробно описавшей ему московскую жизнь и занятия музыкой с Танеевым, отметил с плохо скрываемой долей раздражения:
«К твоей музыке из всех семейных отношусь более сочувственно. Во 1-ых, я сам прошёл это в твои годы и знаю, как это отдохновляет»
9 марта 1896 года Толстой вернулся из Никольского в Москву. 27 и 28 марта, два вечера провёл в Хамовниках известный художественный и музыкальный критик Владимир Васильевич Стасов (1824-1906). Стасова больше всего интересовала будущая книга Толстого об искусстве, и он напомнил ему содержание труда Н.Г.Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к действительности», основной её тезис: «Искусство есть та человеческая деятельность, которая произносит суд над жизнью».
В письме брату Стасов отмечает, что Толстой «этого никогда не знал, не слыхал, понятия не имел. Он был поражен». Понятно, что эта мысль слишком совпадала с тем, о чём Толстой теперь без конца думал. Далее, отмечает в письме Стасов, в разговоре передрали всех русских писателей, не обошли вниманием и одного композитора – Танеева. По наблюдению Стасова тот, «их великий гость и в городе и деревне», для Толстого тогда был «прекраснейший человек, и умный, и добрый, и образованный, только по музыке кажется не очень-то!»
В 1896 году Толстые собирались переехать на лето в Ясную Поляну 28 апреля, и хотя вдруг сильно похолодало и выпал снег, 29 апреля все-таки переехали. Правда вскоре Толстой остался там только с больной дочерью Марией, так как жена с дочерью Сашей уехала в Москву по случаю коронации Николая II (состоялась 14 мая), а старшая дочь Татьяна с братом Мишей (выехала 9 мая) в Петербург, а затем в Стокгольм, на свадьбу сына Льва Львовича с Дорой Вестерлунд, которая была дочерью, лечившего его сына врача.
20 мая 1896 года в Ясную Поляну на лето (до 2 августа) переехал С.И.Танеев, но уже 28 мая 1896 года Толстого раздражает его присутствие. В дневнике Толстого отмечено, что был «Танеев, который противен мне своей самодовольной, нравственной, и смешно сказать, эстетической (настоящей, не внешней) тупостью и его положением первого лица у нас в доме. Это экзамен мне. Стараюсь не провалиться».
Между тем Толстой даёт Танееву читать свою рукопись об искусстве, ждёт от него возражений, и 5 июня, вместе с ним, обсуждает, отмеченные композитором, «неясные места».
15 июня Танеев написал своей родственнице А.И.Масловой: «Два дня назад мы (с Гольденвейзером) в присутствии многочисленного общества играли у меня на двух фортепиано «Силуэты» Антона Степановича (Аренского), которые имели очень большой успех и примерили Л.Н. с новой музыкой…».
Особое «положение» Танеева, – создавалось, прежде всего, Софьей Андреевной, увлечённой и музыкой и музыкантом (не подозревавшим о вызываемых им чувствах); в Ясной Поляне он жил не один, а с нянюшкой Пелагеей Васильевной и юным учеником Ю.Н.Померанцевым (Л.Д.Опульская «Материалы к биографии Л.Н.Толстого с 1892 по 1899 год», М., 1998, стр.208). Слово «юный» приобретает в этой характеристике Танеева какое-то двусмысленное значение, если конечно оно не поставлено исключительно для связки слов.
В конце концов, вдоволь наглядевшись на музыканта и на особое к нему расположение жены, обуреваемый ревностью Толстой, делает в дневнике 26 июля 1896 года следующую запись: «Утро. Всю ночь не спал. Сердце болит не переставая. Продолжаю страдать и не могу покорить себя Богу. Одно: овладел похотью, но – хуже – не овладел гордостью и возмущением, и, не переставая, болею сердцем. Одно утешает… я не один, но с богом, и потому, как ни больно, чувствую, что что-то совершается. Помоги, отец».
Читая дальнейшую запись в дневнике, мы видим, что Толстой, чтобы заглушить в себе ревность, ищет, в окрестностях Ясной Поляны, горя похлещи, но горе то, не его, не продирает до костей и ничего кроме упрека близких, в сочувствии чужому горю, мы не видим: «Вчера шел в Бабурино и невольно (скорее избегал, чем искал) встретил 80-летнего Акима пашущим, Яремичеву бабу, у которой в(о) дворе нет шубы и один кафтан, потом Марью, у которой муж замерз и некому рожь свозить, и морит ребенка, и Трофим, и Халявка, и муж и жена умирали, и дети их. А мы Бетховена разбираем, и молился, чтобы он избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь».
30 июля 1896 года он все еще может успокоиться и раздражается присутствием Танеева, делая в дневнике запись: «Много еще страдал и боролся и все не победил ни того, – ни другого. Но лучше…. Поправило меня только сознание того, что надо жалеть, что она (Софья Андреевна) страдает, и что моей вины нет конца».
Толстой задумывается, слышит, доносящиеся до него сверху голоса, прислушивается, и, чувствуя, как закипает в его груди злость, теряет какую-то очень важную мысль и вместо нее записывает: «Сейчас сверху заговорили об Евангелии, и Танеев стал с усмешкой доказывать, что Христос советовал скопиться. Я рассердился – стыдно».
31 июля 1896 года депрессия не проходит. Толстой пишет: «Жив. Сейчас вечер, 5-й час. Лежу и не могу заснуть. Сердце болит. Измучен. Слышу в окно, играют в теннис, смеются. Соня уехала к Шеншиным. Всем хорошо. А мне тоска, и не могу совладать с собой. Похоже на то чувство, когда Святой Томас запер меня, и я слышал из своей темницы, как все веселы и смеются. Но не хочу. Надо терпеть унижение и быть добрым. Могу».
1 августа 1896 года Татьяна Львовна, поехавшая отдохнуть в Никольском-Обольянове у Олсуфьевых, записала в дневнике, что ей страшно было оставлять своих стариков в том тяжелом настроении, в котором они находятся: «Последнее время в Ясной Поляне я ровно ничего не могла делать: то я стояла у окна и слушала интонации голоса разговаривающих папá и мамá, то бежала разыскивать мамá, то мне казалось, что Андрюша и Миша перешептываются о чем-то нехорошем, то, что от Миши вином пахнет, и это меня повергало в уныние и такую грусть, что сердце щемило и физически тошно делалось».
2 августа переезжает в Москву С.И.Танеев и, судя по полученным 4 августа 1896 года Татьяной Львовной по телефону в именье Олсуфьевых открытым письмам, от мамá, Маши и папá, обстановка в Ясной Поляне нормализуется. Особенно обнадеживающее письмо было от отца: «Хочется тебе написать, глупая беспокойная Таня. Если душе хорошо, то и на свете все хорошо. Вот и постарайся это сделать. Я стараюсь, и ты старайся. Вот и будет хорошо. Целую тебя нежно, твои седые волосы. Л.Т.»
С 10 по 15 августа Толстой с женой побывал в Шамординском монастыре, и под впечатлением от поездки туда, в дневнике 14 сентября 1896 года, им записано: «Было очень хорошо. Я не освободился, не победил, а только прошло…. Соня в Москве с 3-го (сентября). Нынче очень ждал ее, и чуть было, не огорчился…».
Записи последующих дней, касающиеся жены кратки, но содержат понятный нам контекст, всё той же, ревности. 10 октября 1896 года: «С Соней хорошо, хотя и слабо, но борясь любовью». 5 ноября 1896 года: «Пришла Соня, как вчера, и была очень хороша. Потом вечером, когда все ушли, она стала просить меня, чтобы я передал ей права на сочинения. Я сказал, что не могу. Она огорчилась и наговорила мне много. Я еще более огорчился, но сдержался и пошел спать. Ночь почти не спал, и тяжело».
Сейчас нашел в дневнике рецепты (запись от 20 октября 1886 года), прочел их, и мне стало легче: отделить свое истинное я от того, которое оскорблено и сердится, помнить, что это не помеха, не случайная неприятность, а самое мне предназначенное дело и, главное, знать, что если есть во мне эта нелюбовь к кому-нибудь, то, пока есть во мне эта нелюбовь, – я виноват. А как знаешь, что виноват, так – легко».
6 ноября 1896 года: «Соня нынче уехала (в Москву). И хорошо с ней и нехорошо…».
19 ноября и сам Толстой перебирается в Москву и уже на четвертый день 22 ноября 1896 года пишет: «Недоволен собой. Нет работы…. Вспомнил два сюжета, очень хороших:
1) измена жены страстному, ревнивому мужу: его страдания, борьба и наслаждение прощения, и
2) Описание угнетения крепостных и потом точно такое же угнетение земельной собственностью, или, скорее, лишением ее….
Видимо, в конце дня перечитав записанное в дневнике, чувствуя, что личное явно стало преобладающим общественному служению, он сокрушенно добавляет: «Приставленный ко мне бес все при мне и мучает меня».\\
2 декабря 1896 года он, наконец, пишет, что объяснился с женой о своих чувствах:
«Пять дней прошло и очень мучительных. Все тоже. Вчера ходил ночью гулять, говорили. Я понял свою вину. Надеюсь, что и она поняла меня. Мое чувство: я узнал на себе страшную гнойную рану. Мне обещали залечить ее и завязали. Рана так отвратительна мне, так тяжело мне думать, что она есть, что я постарался забыть про нее, убедить себя, что ее не было.
Но прошло некоторое время – рану развязали, и она, хотя заживает, все-таки есть. И это мучительно мне больно, и я стал упрекать, и несправедливо, врача. Вот мое положение. Главное – приставленный ко мне бес. Ах, эта роскошь, это богатство, это отсутствие заботы о жизни матерьяльной, как переудобренная почва. Если только на ней не выращивают, выпалывая, вычищая все кругом, хорошие растения, она зарастает страшной гадостью и станет ужасна. А трудно – стар и почти не могу. Вчера ходил, думал, страдал, молился, и, кажется, не напрасно».
Тем не менее, он никак не может освободиться от подозрений. 12 декабря 1896 года, он опять делает похожую на предыдущие, запись в дневнике: «Много перестрадал в эти дни, и кажется, подвинулся вперед к спокойствию и добру – к богу…».
А тут еще, как масла в огонь подливает Софья Андреевна, которая 15 декабря 1896 года, приходит к страдающему болями в желудке Толстому, чтобы посоветоваться о своих планах на этот день, что, когда она ушла, у него побагровело не только лицо, но и налились кровью глаза:
«Странная потребность тревоги у Сони. Сейчас была у меня с вопросом, не пойти ли проведать Пелагею Васильевну (Чижову, старую няню Танеева, с которой тот проживал в одном доме).
Не удивительно, что 21 декабря 1896 года, запись в дневнике Толстого, выглядит, как самый настоящий вопль:
«Все так же тяжело. (Одна надежда на Бога). Помоги, отец. Облегчи. Усилься во мне, покори, изгони, уничтожь поганую плоть и все то, что через нее чувствую. (Все в этот день вызывает недоумение). Сейчас разговор об искусстве и рассуждение, о том, что заниматься искусством можно только для любимого человека. И не желание (Софьи Андреевны) сказать это мне. И мне не смешно, не жалко, а больно. (Обращается к Богу) Отец, помоги мне. (Но быстро спохватывается, и как бы извиняется, что зря Его побеспокоил). Впрочем, уже лучше. (И объясняет Всевышнему почему?) Особенно успокаивает задача, экзамен смирения, унижения, совсем неожиданного исключительного унижения. В кандалах, в остроге можно гордиться унижением, а тут только больно, если не принимать его (Танеева), как посланное от бога испытание. (И словно получив от Бога совет, соглашается). Да, выучись перенести спокойно, радостно и любить».
Но, выучиться любить Танеева, как-то не выходит и об этом запись в дневнике от 27 декабря 1896 года:
«Плохо выучиваюсь. Все страдаю, беспомощно, слабо. Только в редкие минуты поднимаюсь до сознания всей своей жизни (не только этой) и своих обязанностей в ней. Думал и (почувствовал). Есть люди, лишенные как эстетического, так и этического (главное, этического) чувства, которым нельзя внушить того, что хорошо, еще менее, когда они делают и любят нехорошее и думают, что это нехорошее – хорошо. Сейчас была Соня, говорили. Только еще тяжелее стало».
Но, видимо, Толстой настоял на том, чтобы Танеев больше не переезжал на все лето в Ясную Поляну, а ограничился обычными посещениями.
На таких безрадостных нотах заканчивается 1896 год, и начало нового 1897 года не сулит Толстому в личной жизни ничего хорошего. 12 января 1897 года у Толстого подавленное настроение, и он делится с нами, в своем дневнике, своими горькими мыслями:
«Рано утром. Не сплю от тоски. И не виновата ни желчь, ни эгоизм и чувственность, а мучительная жизнь. Вчера сижу за столом и чувствую, что я и гувернантка – мы оба одинаково лишние, и нам обоим одинаково тяжело. Разговоры об игре Дузе, Гофмана, шутки, наряды, сладкая еда идут мимо нас, через нас. И так каждый день, и целый день. Не на ком отдохнуть. Таня (дочь) бедная и желала бы когда-то, да слабая, с слабыми духовными требованиями натура. Сережа, Илюша (сыновья)….
Бывает в жизни у других хоть что-нибудь серьезное, человеческое – ну, наука, служба, учительство, докторство, малые дети, не говорю уж заработок или служение людям, а тут ничего, кроме игры всякого рода и жранья, и старческий флирт или еще хуже. Отвратительно.
Пишу с тем, чтобы знали хоть после смерти. Теперь же нельзя говорить. Хуже глухих – кричащие. Она (Софья Андреевна) больна, это правда, но болезнь-то такая, которую принимают за здоровье и поддерживают в ней, а не лечат. Что из этого выйдет, чем кончится? Не переставая, молюсь, осуждаю себя и молюсь». И опять, обращаясь к Богу: «Помоги, как ты знаешь».
15 января 1897 года Толстой опять страдает бессонницей: «Рано утром. Почти всю ночь не спал. Проснулся оттого, что видел во сне все то же оскорбление (увлечение Софьи Андреевны Сергеем Николаевичем). Сердце болит. Думал: все равно от чего-нибудь умирать надо. Не велит бог умирать ради его дела, надо так глупо, слабо умирать от себя, из-за себя. Одно хорошо, это то, что легко вытесняет из жизни. Не только не жалко, но хочется уйти от этой скверной, унизительной жизни. Думал и особенно больно и нехорошо то, что после того, как я всем божеским, служением богу жизнью, раздачей именья, уходом из семьи, пожертвовал для того, чтобы не нарушить любовь, – вместо этой любви должен присутствовать при унизительном сумасшествии».
Не удалось ему улучшить настроения и в Никольском, в гостях у Олсуфьевых, судя по тому, что пишет Толстой, в своем дневнике 4 февраля 1897 года: «Я здесь уже четвертый день. И невыразимая тоска…. Соня без меня читала мой дневник, и ее очень огорчило то, что из него могут потом заключить о том, что она была нехорошей женой. Я стараюсь успокоить ее – вся жизнь наша, и мое последнее отношение к ней покажет, какой она была женой. Если она опять заглянет в этот дневник, пускай сделает с ним, что хочет, а я не могу писать, имея в виду ее или последующих читателей и писать ей как будто свидетельство.
Одно знаю, что нынче ночью ясно представил себе, что она умрет раньше меня (наверно почувствовал, как его герой в Крейцеровой сонате, у своей жены, какая у нее жесткая шея) и ужасно стало страшно за себя (суд, наверняка оправдают, и вся его философия, непротивления злу насилием, превращается в фарс).
Лев Николаевич имел все-таки возможность увидеть жену при смерти и на яву. В августе 1906 года у Софьи Андреевны начались сильные боли внизу живота. Врач из Тулы и личный врач Толстого Душан Маковицкий, определи, что у нее опухоль матки. Тяжелая болезнь закончилась сложной операцией, которую делал профессор Снегирев. Профессор удалил громадную кисту, и все закончилось благополучно. Но как себя вел тогда Толстой. Он словно был разочарован этим благополучным исходом, видимо из-за того, что не сбылось его предсказание.
Сын Толстого Илья Львович впоследствии вспоминал: «Папá совершенно не верил в пользу операции, думая, что мамá умирает, и молитвенно готовился к ее смерти…. Во время самой операции он ушел в «Чепыж» и там ходил один и молился.
- Если будет удачная операция, позвоните мне в колокол два раза, а если нет, то… нет, лучше не звоните совсем, я сам приду, – сказал он, передумав, и тихо пошел к лесу.
Через полчаса, когда операция кончилась, мы с сестрой Машей бегом побежали искать папá. Он шел нам навстречу, испуганный и бледный.
- Благополучно.
- Благополучно, – закричали мы, увидав его на опушке.
- Хорошо, идите, я сейчас приду, – сказал он сдавленным от волнения голосом и повернул опять в лес.
После пробуждения мамá от наркоза он вошел к ней и вышел из ее комнаты в подавленном и возмущенном состоянии.
- Боже мой, что за ужас! Человеку умереть спокойно не дадут. Лежит женщина с разрезанным животом, привязана к кровати, без подушки… и стонет больше, чем до операции. Эта пытка какая-то…».
Но вернемся к дневниковой записи Толстого от 4 февраля: «Третьего дня я писал ей (Софье Андреевне), что мы особенно вновь, понемногу (что всегда бывает особенно твердо) начали сближаться лет пять или четыре тому назад и хорошо бы это сближение все увеличивалось до смерти одного из нас, моей, которая я чувствую, очень близка…».
Нам остается только заглянуть в это письмо и узнать все подробности душевного состояния Толстого в те дни:
«1 февраля вечер. Милый друг Соня, Таня написала тебе о том, как мы доехали и живем, о внешнем, мне же хочется написать тебе о том, что тебя интересует – о внутреннем, о душевном моем состоянии.
Уезжал я грустный, и ты почувствовала это и оттого приехала, но тяжелого чувства моего не рассеяла, а скорее усилила. Ты мне говорила, чтоб я был спокоен, потом сказала, что ты не поедешь на репетицию. Я долго не мог понять: какую репетицию? и никогда и не думал об этом. И все это больно. Неприятно, больше, чем неприятно… мне было узнать, что, несмотря на то, что ты столько времени рассчитывала, приготавливалась, когда ехать в Петербург, кончилось тем, что ты едешь именно тогда, когда не надо бы ехать.
Я знаю, что это ты не нарочно делала, но все это делалось бессознательно, как делается всегда с людьми, занятыми одной мыслью. Знаю, что и ничего из того, что ты знаешь, теперь не может выйти, но ты невольно играешь этим, сама себя возбуждаешь; возбуждает тебя и мое отношение к этому. И ты играешь этим.
Мне же эта игра ужасно мучительна. Ты скажешь, что ты не могла иначе устроить свою поездку. Но если ты подумаешь и сама себя проанализируешь, то увидишь, что это неправда: во-1-ых, и нужды особенной нет для поездки, во-2-ых, можно было ехать прежде и после – потом. Но ты сама невольно это делаешь.
Ужасно больно и унизительно стыдно, что чуждый совсем и не нужный и ни в каком смысле не интересный человек (Сергей Иванович) руководит нашей жизнью, отравляет последние года или год нашей жизни, унизительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции, когда играет.
Это ужасно, ужасно, отвратительно и постыдно. И происходит это именно в конце нашей жизни – прожитой хорошо, чисто, именно тогда, когда мы все больше и больше сближались, несмотря на все, что могло разделить нас. Это сближение началось давно, еще до Ванечкиной смерти, и становилось все теснее и теснее и особенно последнее время, и вдруг вместо такого естественного, доброго, радостного завершения 35-летней жизни, эта отвратительная гадость, наложившая на все свою ужасную печать.
Я знаю, что тебе тяжело и что ты тоже страдаешь, потому что ты любишь меня, и хочешь быть хорошею, но ты до сих пор не можешь, и мне ужасно жаль тебя, потому что я люблю тебя самой хорошей не плотской и не рассудочной, а душевной любовью. Прощай и прости, милый друг. Целую тебя. Л. Т.
Письмо это уничтожь. Во всяком случае, пиши мне, и почаще. Зачем я пишу? Во-1-ых, чтобы высказаться, облегчить себя и, во-2-ых и главное, чтобы высказать тебе, – напомнить тебе о(бо) всем значении тех ничтожных поступков, из которых складывается то, что нас мучает, помочь тебе избавиться от того ужасного загипнотизированного состояния, в котором ты живешь.
Кончиться это может невольно чьей-нибудь смертью, и это, во всяком случае, как для умирающего, так и для остающегося, будет ужасный конец, и кончиться может свободно, изменением внутренним, которое произойдет в одном из нас.
Изменение это во мне произойти не может: перестать видеть то, что я вижу в тебе, я не могу, потому что ясно вижу твое состояние; отнестись к этому равнодушно тоже не могу. Для этого – чтоб отнестись равнодушно, я должен сделать крест над всей нашей прошедшей жизнью, вырвать из сердца все те чувства, которые есть к тебе. А этого я не только не хочу, но не могу. Стало быть, остается одна возможность, та, что ты проснешься от этого страшного сомнамбулизма, в котором ты ходишь, и вернешься к нормальной, естественной жизни. Помоги тебе в этом Бог. Я же готов помогать всеми своими силами, и ты меня учи, как?
Заезжать тебе на пути в Петербург, я думаю, лучше не надо. Лучше заезжай оттуда. Виделись мы недавно, а я не могу не испытывать неприятного чувства по отношению этой поездки. А я чувствую себя слабым и боюсь себя. Лучше заезжай оттуда.
Ты всегда говоришь мне: будь спокоен, и это оскорбляет и огорчает меня. Я верю твоей честности вполне, и если я желаю знать про тебя, то не по недоверию, а для того, чтобы убедиться, насколько, ты связана или свободна».
Софья Андреевна не только не отказалась, от поездки в Петербург на репетицию концерта С.И.Танеева, но, и, не испугавшись «слабости мужа» заехала к нему, по пути туда, в Никольское-Обольяново. Толстой, который к этому времени узнал из телеграммы, что Чертков и Бирюков по распоряжению властей, «за пропаганду и незаконное вмешательство в дело сектантов» высылаются – первый заграницу, а второй в Курляндскую губернию, тоже решил отправиться в Петербург. И не только затем, чтобы проститься с ними, но и, видимо для того, чтобы не дать ревности привести к тому, когда ничего нельзя будет исправить.
В дневнике Толстого за 6 февраля 1897 года отмечено: «Утром приехал Горбунов (Иван Иванович Горбунов-Посадов,1864-1940, один из редакторов-издателей «Посредника); вечером телеграмма, что Чертковы едут в четверг. Я собрался ехать с Соней. Поехали (в Петербург, в котором Толстой не был с 1880 года). Здоровье лучше».
В Петербурге Толстые остановились на квартире Адама Васильевича и Анны Михайловны Олсуфьевых, на Фонтанке, 14 и, конечно же, сразу же поехали к Чертковым.
7 февраля 1897 года, Толстой в дневнике отметит: «Поехал к Чертковым. У них радостно».
Из воспоминаний писательницы В.Микулич (Л.И.Веселитской, 1857-1935) мы узнаем, что «Чертков имел победоносный вид. Было, отчего радоваться, так как до сих пор министр внутренних дел (с 1895 по 1899 гг.) Иван Логгинович Горемыкин (1839-1917) говорил: «Толстовцы не сносны, но не опасны». Теперь их признали опасными: с ними вступили в борьбу, их преследовали».
В тот же день Толстой навестил больного туберкулезом художника Ярошенко (Николая Александровича,1846-1898) и встретил у него Дмитрия Ивановича Менделеева. Но самое главное, что подняло его в тот день настроение: «Вечер дома с Соней. Нам хорошо. Молюсь, чтобы и здесь и везде не отступать от сознания посланничества, исполняемого добротой».
8 февраля 1897 года в составе большой компании (Софья Андреевна, Чертков, Бирюков, Горбунов-Посадов и др.) Толстой отправился в Академию художеств, где находилась мастерская художника Ильи Ефимовича Репина (1844-1930). Со слов Репина это выглядело так: «Посетившие (меня) ходили гурьбой за учителем (Толстым) и слушали, что скажет он перед той или другой картиной. Счастье выпало на долю картины «Дуэль». Перед ней Лев Николаевич прослезился и много говорил о ней с восхищением». Умилила фигура умирающего, протягивающего руку убийце: «простите» (Л.Д.Опульская, «Материалы», стр.235).
Но 11 февраля 1897 года, в Петербурге, ему опять тревожно, и, стараясь себя успокоить, он пишет в дневнике: «Ничего, ничего, молчание. Был у (критика) Стасова (Владимира Васильевича, 1824-1906), у (двоюродной тетки) Толстой (Александры Андреевны, 1817-1904). Дурного не делал, но и хорошего тоже. Скорее хорошее. Но видимо Стасов и Толстая, не помогли советами, и опять обращение к Богу: «Помоги бог не сглазить, а лучше. Ничего не думаю».
Не прибавил оптимизма Толстому и разговор с издателем газеты «Новое время» Александром Сергеем Сувориным, которому он, стараясь объяснить все, сказал: «Жить осталось мало, а сказать и сделать хочется еще очень много».
Из Петербурга Толстые выехали в 7 часов вечера 12 февраля и вместе же возвратились в Никольское, и главное, оба успокоенные.
Как особо отмечает Л.Д.Опульская («Материалы», стр.238): «В Софье Андреевне, к радости мужа, раскрылась отзывчивая, добрая душа, она «полюбила» Черткова и Бирюкова, о чем Толстой поспешил известить своих любимых друзей».
Но 16 февраля 1897 года, продолжая записи в дневнике, Толстой уже не так оптимистичен:
«Вернувшись третьего дня утром, заболел. Вчера было лучше…. Нынче уехала Соня после огорчившего ее разговора. Женщины не считают для себя обязательными и не могут двинуться вследствие требований разума. У них не натянут этот парус. Они идут на веслах без руля. Мне опять нездоровится и очень умиленно грустно…».
А в письме жене, в этот день, он напишет: «Как только ты уехала, да еще до того, как ты уехала, мне сделалось ужасно грустно, – грустно за то, что мы так огорчаем, друг друга, так не умеем говорить».
17 февраля 1897 года, в дневнике Толстого записано: «Нехорошо себя чувствую», и что он пытается писать об искусстве. Настроение ему поднимает приехавшая в Никольское дочь Татьяна: «Приехала Таня. Хорошая, ясная. Все высказал ей».
Когда на душе полегчало, вспомнил, о чем думал до Петербурга, в частности о том, «что для того, чтобы всегда было хорошо: всегда думать о других, в особенности, когда говоришь с кем», и в продолжение написанного ранее добавляет: «…Написал два письма Соне: вчера и нынче, послал…».
Далее из дневника Толстого узнаем, что и 20 февраля 1897 года, он опять не в духе:
«Все так же дурно себя чувствую…. Утром не заснул, потом, и не пытаясь работать, пошел ходить. Чрезвычайная слабость. Душой спокоен, только скучно, что не могу работать. Полон дом народа. Нынче получил письмо от Сони. Все это сблизило нас. И, кажется, я освободился вполне…».
21 февраля 1987года Толстой не работал, перечитал первую редакцию своей работы об искусстве, и отметил в дневнике - «не дурно».
Затем, чтобы, как-то развеять скуку, вызвался привезти, гостившей в Никольском молодой учительнице Н.М.Юшковой платье. Юшкова заказала себе платье у портнихи, которая жила в сторожке, в 6 верстах от Никольского, но в этот день, когда нужно было забрать платье, разыгралась сильная вьюга, но, не смотря на это, Толстой отправился за ним, и привез.
22 февраля 1997 года Толстой в письме к брату Сергею Николаевичу (1826-1904) говорит о своем самочувствии, следующее:
«…Я всю зиму эту не так здоров, как бы желал и как бывал прежде. Главное не работается, а, живя в этой безобразной жизни, одно успокоение – это уйти с головой на 4, 5 часов в день в свою работу, которую считаешь не бесполезной…».
22,23 и 24 февраля 1897 года, судя по дневнику Толстого здоровье сначала улучшается, «бодро» пишет об искусстве, но после обеда 23 февраля, опять раздражен тем, что «пропасть народа» а «серьезного разговора нет».
«Даже вчера, – вспоминает он, – от музыки было скучно». Надежда на любительский спектакль. Как дочь Татьяна и Михаил Адамович Олсуфьев сыграли в одноактной пьесе И.Л.Щеглова «Женская чепуха» – понравилось. «Очень хорошо сыграли», отмечает он после спектакля в своем дневнике и следом, что так же хорошо и то, что все сегодня «обошлось почти без изжоги».
В письме мужу от 22 февраля 1897 года Софья Андреевна посетовала, что не может приехать в Никольское, сменить дочь Татьяну, в переписке его статьи об искусстве, так как занята корректурами 10-го издания его «Сочинений», и при этом отметила: «Я знаю, что ты только тогда счастлив, когда тебе пишется. Очень жалею, что не буду переписывать твою статью, она меня очень заинтересовала».
24 февраля Толстой проснулся «вялый и после завтрака сразу заснул». До обеда и вечером гуляет, «успешно борется с изжогой», читает книгу французского искусствоведа Бенара «Эстетика Аристотеля». Считает, что «очень важно» упомянуть ее в своем трактате «об искусстве». Вспоминает, о чем думал все эти дни, в частности о том «отчего некоторым людям (моим хозяевам и их гостям) нельзя даже говорить про истину и добро, – так они далеки от нее? Это оттого, что они окружены толстым слоем соблазнов, что уж стали непроницаемы. Они не могут бороться с грехом, потому что из-за соблазнов не видят грех. В этом главная опасность и весь ужас соблазнов».
В Никольское приезжает сын Толстого Сергей (1863-1947), и Лев Николаевич, отмечая это событие в дневнике 1 марта 1897 года, пишет, что «приехавший Сережа сильно заболел жабой. Он мне очень жалок, и я только что хотел поговорить с ним, попытаться утешить и ободрить его».
Утром ему не пишется – снова «заснул». Но на прогулке утром и вечером ему «было очень приятно». Думал о смерти, об Адаме Васильевиче Олсуфьеве и о том, что есть средство для твердости и спокойствия.
Казалось бы, приятно думать о смерти может только сумасшедший, но тут совсем другое и не совсем такое страшное событие, как может показаться, если проследить за рассуждениями Толстого. Хотя мало вероятно, что он сам этому верит, когда записывает в дневнике: «то, что смерть теперь уже прямо представляется мне сменой: отставлением от прежней должности и приставлением к новой. Для прежней должности кажется, что я уже весь вышел и больше не гожусь».
Адам Васильевич Олсуфьев ему интересен, как тип для драмы – баловень судьбы, добродушный, чистый и любящий наслаждения человек. Думает о нем, как о «хорошем человеке и как о не могущем вместить в себе радикальные нравственные требования». При этом, возможно, сравнивает хозяина имения, с другим более именитым Адамом Васильевичем, словно примеряет на себе биографию последнего, как найденный в шкафу старый костюм, повязывая перед зеркалом, собственноручно сшитый галстук своих нравственных принципов. Статс-секретарь Екатерины II А.В.Олсуфьев (1721-1784), был также писателем, но при жизни не опубликовал своих произведений, кроме перевода немецкой комедии «Шесть блюд». И не смотря на это, за выполнение с успехом поручений императрицы в иностранных дворах и как знаток права, за разработку инструкций для губернаторов, был произведен ею в сенаторы, а как писатель, знаток истории и языков, особенно латинского, был назначен председателем театрального общества.
Вероятно, в связи с этим, припомнил, как в разговоре с ним Алексей Сергеевич Суворин (1834-1912), который посетил его в петербургском доме Адама Васильевича и Анны Михайловны Олсуфьевых 11 февраля 1897 года, предложил ему обратиться непосредственно к государю:
- Вам бы поехать к нему, вы бы его убедили.
- Если жену свою не убедишь, – ответил он тогда, – то государя уже подавно.
- Ну, жена другое дело, она слишком близка.
- А государь слишком далек, - возразил он Суворину, и теперь не сомневаясь, что его, если и выслушают, но не услышат.
Но видимо размышления об этих двух Адамах Васильевичах Олсуфьевых сильно утомили Толстого, переключиться было не на что, и все его мысли сразу же сосредоточилось на том, как в яснополянском доме Софья Андреевна «музицирует» с Танеевым. Чувствуя, что в нём закипает ревность, переходящая в бешенство, он делает глубокий вдох, заглатывает интерпретированную им из Евангелия христианскую заповедь «о непротивлении злу насилием» и пишет в дневнике для себя рецепт на средство сохраняющее его душевное спокойствие.
Разумеется, принимать его внутрь он не собирался, но по случаю мог посоветовать другим, посчитав, что «для твердости и спокойствия есть одно средство: любовь, любовь к врагам». То, что это средство на него не действует, говорит последующая запись: «Да вот мне задалась задача с особенной неожиданной стороны, и как плохо я сумел разрешить ее. Надо постараться».
Прекрасно понимая, что с этим он никогда не справится, Толстой опять обращается за помощью к Богу: «Помоги, отец».
2 марта 1897 года Толстой отмечает, кроме всего прочего, что в Никольском «мы здесь целый месяц», пора и честь знать, «завтра едем». На следующий день, уже в Москве, с огорчением отмечает: «Дома хорошо бы, да не дружно».
4 марта 1897 года Толстой ходил в Публичную библиотеку, так как накануне «запнулся на историческом ходе искусства» и взял там интересующие его книги. Проводив гостей, с грустью записывает в дневнике: «Теперь поздно, иду спать. Соня в концерте».
9 марта 1897 года сокрушается: «Батюшки сколько дней пропустил», ни строчки в дневнике за 4 дня. А 15 марта 1897 года даже не обращает внимания, что пропустил шесть дней, а только в дневнике отмечает, что «не дурно прожил. Вижу конец статьи об искусстве. Все тоже спокойствие». Понятно какое, если дальше пишет: «Благодарю бога» и подчеркивает: «Вечер. Иду в скучную гостиную».
Не трудно догадаться какой там интересный гость. Толстой спокоен и соблюдая приличия, вероятно, говорит: «Здравствуйте, господин Танеев, рад вас видеть, как всегда, продолжайте, какая чудесная музыка». Трудно вынести, когда ты, пуп русский земли здесь, а внимание переключено на какую-то ничтожную личность.
28 марта 1897 года Толстой навещает Антона Павловича Чехова, находившегося в клинике А.А.Остроумова из-за сильного легочного кровотечения, о чем тот упоминает в своей записной книжке: «Приходил ко мне Толстой Л.Н.; говорили о бессмертии…». Позднее Чехов шутил, что Толстой «ожидал найти его чуть ли не умирающим, и когда этого не оказалось, то даже как будто выразил на своем лице некоторое разочарование».
Подробнее А.П.Чехов рассказывает о приходе к нему Толстого в письмах из Мелихова журналисту Михаилу Осиповичу Меньшикову (1859-1917) и писателю Александру Ивановичу Эртелю (1855-1908).
Из письма М.О.Меньшикову от 16 апреля 1897 года мы узнаем: «…20 марта я поехал в Петербург, но на пути у меня началось кровохарканье, пришлось задержаться в Москве и лечь в клинику на две недели…. Нет худа без добра. В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым мы вели преинтересный разговор, преинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии.
Он признает бессмертие в кантовском виде; полагает, что все мы (люди, животные) будем жить в начале (разум, любовь), сущность и цель которого для нас составляет тайну.
Мне же это начало или сила представляется в виде бесформенной студенистой массы, мое я – моя индивидуальность, мое сознание сольются с этой массой, – такое бессмертие мне не нужно, я не понимаю его, и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю» (А.П.Чехов, ПСС, том 17, стр.63-64, Москва, 1949 г.).
А из письма А.И.Эртелю от 17 апреля 1897 года, которое дополняет предыдущее, узнаем:
«…Толстой пишет книжку об искусстве. Он был у меня в клинике и говорил, что повесть свою «Воскресение» он забросил, так как она ему не нравится, пишет же только об искусстве и прочел об искусстве 60 книг. Мысль у него не новая; ее на разные лады повторяли все умные старики во все века.
Всегда старики были склонны видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до nec plus ultra (до крайней степени), что искусство измельчало, износилось, что люди ослабели и прочее и прочее. Лев Николаевич в своей книжке хочет убедить, что в настоящее время искусство вступило в свой окончательный фазис, в тупой переулок, из которого ему нет выхода (вперед)…».
1 апреля 1897 года в московском доме Гольденвейзер и Танеев, по просьбе Толстого, сыграли в четыре руки Девятую симфонию Бетховена, которому, видимо, понадобилось проверить сложившееся о ней раньше мнение. В фортепьянном исполнении, судя по всему, симфония Толстому понравилась…
В тоже время в дневнике Толстого уже значительный пробел и он сам же 4 апреля 1897 года, это подчеркивает: «Почти месяц не писал (20 дней) и дурно прожил это время – тем, что мало работал. Все писал об искусстве – запутался в последние дни…. Боюсь, что тема об искусстве заняла меня в последнее время по личным эгоистическим скверным причинам. Я понимаю, что говорю…».
Как не понимать, если жена целиком посвятила себя искусству, а его самого, это искусство, когда оно само по себе, а не к месту, как музыка Бетховена, которая ассоциируется у него с одним Танеевым, только раздражает.
9 апреля 1897 года в дневнике Толстого, после пропуска в пять дней, записано: «Был болен. Спокойно думал, что умру». Видимо, почти поправился, если далее отмечает: «Нынче хорошо писал об искусстве…. Я внешне совсем, но внутренне не совсем спокоен. Стоит помнить, что все на благо, и когда помню, как теперь, – хорошо».
Но, видимо, так раз об этом, в Москве, он без конца забывает и, чтобы не бороться с нарастающим раздражением, 2 мая 1897 года уезжает с дочерью Татьяной в Ясную Поляну.
3 мая 1897 года Лев Толстой, в своем дневнике, словно подводит итог борьбы за свое спокойствие: «Почти месяц не писал. Не хороший и не плодотворный месяц…. Чувствую себя и физически, и умственно, и нравственно слабым. Нравственный человек начинает пробуждаться, и недоволен».
А как же христианские заповеди, почему они не могут погасить это недовольство, не трудно догадаться, потому что эти абстрактные понятия хороши для внешнего употребления, а не тогда, когда, то, от чего они предостерегают, касается тебя лично.
В тот же день после прогулки, вернувшись с цветами (кашки и ландыши), Толстой отмечает: «удивительная весна». Под впечатлением от прогулки написал письмо жене:
«Очень я себя чувствовал вялым и слабым в день отъезда и дорогой. Но необыкновенная красота весны нынешнего года в деревне разбудит мертвого…. Спал дурно, убирался, почти ничего не делал…. Пожалуйста, пожалуйста, не увлекайся ты работой, т.е. не засиживайся по ночам. Это ужасно не хорошо тебе. А езди за город, ходи по саду. И не говори, что нужно, принести 8 листов. Нельзя подчинять свое здоровье и потому жизнь типографии».
Он представил, как Софья Андреевна читает корректуры его 10-го издания Сочинений, а затем: «Много думал и не записывал. Ничего доброго не сделал». Считая свою жизнь праздной от безделья и изнеженности, сравнивал себя, с плененным лилипутами Гулливером, и в конце дня подвел итог: «Волоски лилипутов так связали меня, что не скоро двинусь ни одни членом, если не стану разрывать».
Неожиданно он вспоминает лермонтовские строки, которые начали сверлить мозг, ещё раз, подводя его к мысли, что жизнь, в её прежнем виде, кончилась, но еще достаточно оптимизма, начать все сначала: «Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть».
Усмехнувшись, Толстой снова берется за перо и делает из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) «Выхожу один я дорогу» перифраз этих двух строк, в виде: «Ничего от жизни не хочу я, и не жаль мне прошлого ни чуть». И далее … «на себя гадко, совестно, жаль своей души».
Через неделю 9 мая 1897 года, Толстому не спится, и он опять изливает свою душу в дневник:
«Ночь, 12 часов. Пошел было спать, но сошел, чтобы записать удивительное душевное состояние: мучительная тоска, но не добрая. Болезнь ли это, или душевная слабость, но я очень страдаю. Молюсь…». Во время молитвы он, видимо, вспоминает, что сделал нечто важное и делает приписку: «Нынче приехали патровские (из села Патровка, Самарской губернии) молоканы (крестьяне В.Т.Чипилев и В.И.Токарев), я написал начерно письмо царю. Письмо это Николаю II, содержало протест против того, что у сектантов-молокан насильно отнимали детей, и отправляли в церковные приюты. «Хорошо бы».
Но, что «хорошо бы», видимо относилось к тому с кем или через кого это письмо передать. Поэтому им 10 мая 1897 года было написано и отдано ходокам не только письмо для Николая II, но и письма в адрес А.Ф.Кони, А.В.Олсуфьева, К.О.Хиса, А.С.Танеева и А.А.Толстой, для передачи этого письма царю через них. К этим письмам также было приложено письмо от сына Толстого Льва Львовича к великому князю Георгию Михайловичу, с которым тот был лично знаком и у которого один из ходоков, В.И.Токарев, служил в полку.
16 мая 1897 года он напишет по этому поводу: «Письмо написал и послал, кажется 11-го. Теперь должно быть подано».
Но все было не так. Крестьяне В.Т.Чипилев и В.И.Токарев, приехав в Петербург, явившись в дом великого князя Георгия Михайловича, передали предназначенное для него письмо, а остальные же по совету прислуги уничтожили, опасаясь преследований. Получив от Георгия Михайловича, обещание что он похлопочет – «обещание, очевидно, ничего не обещающее», как заметил Толстой в письме 26 мая 1897 года В.Г.Черткову, они вернулись в Ясную Поляну.
Судя по письму Толстого, 12 мая 1897 года, в Ясную Поляну приезжала Софья Андреевна, так как он, под впечатлением этого визита, сразу же после ее отъезда, пишет письмо, датированное 12-13 мая 1987 года:
«Читай одна. Как ты доехала и живёшь, милый друг? Оставила ты своим приездом такое сильное, бодрое, хорошее впечатление, слишком даже хорошее для меня, потому что тебя сильнее недостает мне. Пробуждение моё и твоё появление – одно из самых сильных, испытанных мной, радостных впечатлений; и это в 69 лет от 53-летней женщины…. Сережа приехал в тот вечер, как ты уехала; он постучал под мое окно, и я с радостью крикнул: «Соня»….
Все мы дружны, и всем приятно. Работается недурно. Нынче вечером чувствую себя как будто бодрее и почти не чувствую головы. Может быть, болезнь моя, только старость…».
16 мая 1897 года, можно представить какие Толстой испытывал чувства, когда впечатления от визита жены улетучились, если в дневнике об этом записано так, что суше и сказать и невозможно: «13 (видимо ошибся днём) приезжала Софья Андреевна. Вчера (15-го) получил от неё письмо. Все то же. Всю ночь не спал. Никогда страдания не доходили до такой силы…». Обратиться за помощью опять, кроме Бога не к кому: «Отец, помоги мне. Научи. Войди. Усилься во мне. Ни могу прийти, ни к какому решению. Не думать? Нельзя. Решить ничего не могу. Жалеть не могу, и противодействовать не могу по жалости. Боже, помоги».
Что же такое написала своему мужу Софья Андреевна, если он впал в такую депрессию. А просто обрадованная «ласковому письму», особенно словами, что «её появление – одно из самых сильных испытанных мужем радостных впечатлений», скорее всего неправильно истолковала это пылкое признание, как результат её увлечения искусством.
Лидия Дмитриевна Опульская в «Материалах за 1892-1899 годы к биографии Л.Н.Толстого» (Москва, РАН, Институт мировой литературы, 1998 г., стр.250) кратко излагает содержание писем Софьи Андреевны от 14 и 16 мая. Особо подчеркивая, что та, рассказывая мужу про московскую жизнь, портних, купцов, типографщиков, между прочим, упоминает и о С.И.Танееве, «который утром играл свою симфонию, и два раза по утрам приходил заниматься с ней в беседку хамовнического сада».
А только ли музыкой? – говорил тогда Толстому, можно даже не сомневаться в этом, навязчивый внутренний голос. Не зная, как побороть раздражение от прочитанных писем жены, он пишет письмо В.Г.Черткову о том, что не может найти выхода из создавшегося положения: «Я испробовал всё: гнев, мольбы, увещеванья и в последнее время снисходительность и доброту. Ещё хуже. Страдаю я, как не стыдно сказать, от унижения и жестокости».
Письмо Черткову он отправлять передумал, а написанную затем записку жене, запечатанную в синем конверте, положил в одну из книг. Этот конверт спустя два года оказался в руках Софьи Андреевны, когда выпал из одной книг, которые Толстой решил переплести. Когда Софья Андреевна прочитала, что написано на конверте, она ужаснулась. Из её дневника мы узнаем, что на конверте рукой Толстого было написано, «что он решил лишить себя жизни, потому что видит, что она его не любит, что она любит другого, что он этого пережить не может». Софья Андреевна решила вскрыть конверт, но Толстой вырвал из ее рук письмо и разорвал на мелкие куски. Скорее всего, перечитав письма Черткову и жене, Толстой понял, что эти поспешно написанные послания, далеки от совершенства и не отражают всей глубины переживаемой им трагедии. Не раздеваясь, ложится на кожаный диван в кабине, долго ворочается, перебирая в голове все возможные последствия ухода из жизни, представляя, что будут говорить близкие и что наплетут по этому поводу журналисты. Стыдно даже в гробу. Хочется возразить, но поставленную им самим точку в биографии, кто-то сразу же ловко заменяет запятой, но кто уже сквозь дремоту не разобрать. Опять какие-то незнакомые лица пытаются распутать нить его судьбы, на которой он сам завязал узел, и лишнее, то ли отсёк ножницами, то ли оторвал, то ли откусил.
Перед глазами какое-то месиво из знаков препинания. Двоеточия, растягивающиеся до восклицательных знаков и запятые, разрастающиеся до знаков вопроса и множество уходящих по спирали в бесконечность точек. А тут и собственное вращение, вокруг нечто знакомого и понятного, и это совсем ему не кажется сном, хотя рядом чей-то храп раздражает, но не диван же храпит….
17 мая 1897 года Толстой уже не сомневается, что серьезно болен и в дневнике появляется аббревиатура: «Е.б.ж.», сокращение слов - если буду жив, «что сомнительно. Сердце ужасно болит. Слезы в горле. Только пуститься, и разрыдаюсь».
К тому же масла в огонь подлила новость, о его письме Николаю II, о чём, не без горечи, на следующий день, он отметит: «…вернулись молокане, бросив моё письмо в навоз».
18 мая 1897 года ему не легче: «Все так же, не переставая, болит сердце. Три ночи не спал и чувствую, что не буду спать и нынче. Не могу ничего работать. Кажется, пришел к решению, уйти из дома. Трудно исполнить, но не могу и не должен иначе…. Сегодня же приехал Буланже. Переписал письма (Николаю II и сопроводительные, к знакомым в Петербурге) и послал с ним».
Толстой послал своего знакомого, служащего Московско-Курской железной дороги, Павла Александровича Буланже (1865-1925) в Петербург, с письмом к царю, снабдив его одновременно письмами к влиятельным лицам. Первое письмо, с просьбой о содействии в этом деле, было для Александра Васильевича Олсуфьева (1843-1907), генерал-адъютанта Николая II, брата Адама Васильевича, у которого Толстой бывал в Никольском и останавливался в Петербурге. Второе - для К.О.Хиса, воспитателя Николая II и его братьев, учителя английского языка. Третье - для Александра Сергеевича Танеева (род.1857), гофмейстера и управляющего Собственной Его Императорского Величества канцелярией. С последним из адресатов, дядей композитора Танеева, Толстой встречался за границей в 1860-1861 годах.
Проводив Буланже, Толстой просматривает письма, но и это не поднимает его настроения: «От Черткова письма хорошие, но я ничего не вижу, не чувствую, не живу…».
Но в это трудно поверить, если последующая запись о том, что «сейчас уехал Лева (сын) с женой», и из этого можно сделать вывод, что он, по крайней мере, не теряет зрения или чувствует, что кто-то их близких уехал и главное продолжает жить, хотя и старается нас уверить в обратном.
Ночью 19 мая 1897 года, нервы у Толстого не выдерживают, и он пишет жене письмо, что уезжает в Пирогово, чтобы дать ей возможность, в его отсутствие, обдумать пять предлагаемых им выходов из создавшегося положения. Тем самым он предполагал исключить, если бы остался, как взаимное раздражение, так и ложное примирение:
«Милая и дорогая Соня. Твое сближение с Танеевым мне не то что неприятно, но страшно мучительно. Продолжая жить при этих условиях, я отравляю, и сокращаю свою жизнь. Вот уже год (видимо следует понимать, что с мая 1996 года), что я не могу работать и не живу, но постоянно мучаюсь. Ты это знаешь.
Я говорил это тебе и с раздражением, и с мольбами, и в последнее время совсем ничего не говорил. Я испробовал все, и ничего не помогло: сближение продолжается и даже усиливается, и я вижу, что так будет идти до конца.
Я не могу больше переносить этого. В первое время после получения твоего последнего письма я было решил уехать. И в продолжение трех дней жил с этой мыслью и пережил это и решил, что, как ни тяжела мне будет разлука с тобой, все-таки я избавлюсь от этого ужасного положения унизительных подозрений, дерганий и разрываний сердца и буду в состоянии жить и сделать под конец жизни то, что считаю нужным делать.
И я решил уехать, но когда я подумал о тебе, не о том, как мне будет больно лишиться тебя, как это ни больно, а о том, как тебя это огорчит, измучит, как ты будешь страдать, я понял, что не могу этого сделать, не могу уехать от тебя без твоего согласия.
Положение такое: продолжать жить так, как мы теперь живем, я почти не могу.
Я говорю почти не могу, потому что всякую минуту чувствую, как теряю самообладание и всякую минуту могу сорваться и сделать что-нибудь нехорошее: без ужаса не могу думать о продолжении тех почти физических страданий, которые я испытываю и которые не могу не испытывать.
Ты знаешь это, может быть, забывала, хотела забывать, но знала, и ты хорошая женщина и любишь меня и все-таки не хотела, я не хочу еще думать, чтобы не могла избавить меня, да и себя от этих ненужных, ужасных страданий.
Как же быть? Реши сама. Сама обдумай и реши, как поступить. Выходы из этого положения мне кажутся такие:
1) и самое лучшее, это то, чтобы прекратить всякие отношения, но не понемногу и без соображений о том, как это кому покажется, а так, чтобы освободиться совсем и сразу от этого ужасного кошмара, в продолжение года душившего нас. Ни свиданий, ни писем, ни мальчиков, ни портретов, ни грибов Анны Ивановны (Масловой, знакомой Танеева), ни Померанцева (Юрия Николаевича, ученика Танеева), а полное освобождение, как Маша освободилась от Зандера, Таня – от Попова. Это одно и лучшее.
Другой выход это то, чтобы мне уехать за границу, совершенно расставшись с тобой, и жить каждому своей независимой от другого жизнью. Это выход самый трудный, но все-таки возможный и все-таки в 1000 раз для меня более легкий, чем продолжение той жизни, которую мы вели этот год.
Третий выход в том, чтобы тоже, прекратив всякие сношения с Танеевым, нам обоим уехать за границу и жить там, до тех пор, пока пройдет то, что было причиной всего этого.
Четвертый не выход, а выбор самый страшный, о котором я без ужаса и отчаяния не могу подумать, это тот, чтобы, уверив себя, что это пройдет и что тут нет ничего важного, продолжать жить так же, как этот год: тебе самой, не замечая этого, отыскивать все способы сближения, мне видеть, наблюдать, догадываться и мучиться – не ревностью, может быть, есть и это чувство, но не оно главное.
Главное, как я тебе говорил, стыд и за тебя и за себя. То самое чувство, которое я испытывал по отношению к Тане, с Поповыми, с Стаховичем, но только еще в 100 раз болезненнее.
Пятый выход тот, который ты предлагала: мне перестать смотреть на это, как я смотрю, и ждать, чтобы это само прошло, если что и было, как ты говоришь. Этот пятый выход я испробовал и убедился, что не могу уничтожить в себе то чувство, которое мучит меня, до тех пор, пока продолжаются поводы к нему.
Я испытал это в продолжение года и старался всеми силами души и не мог и знаю, что не могу, а напротив, удары все по одному и тому же месту довели боль до высшей степени.\\
Ты пишешь, что тебе больно видеть Гуревич, несмотря на то, что чувство, которое ты с ней связала, не имело никакого подобия основания и продолжалось несколько дней. \\
Что же должен я чувствовать после 2-х летних увлечений (уточняет, что эта связь длится не год, а два, с мая 1895 года), и имеющих самые очевидные основания, когда ты после всего, что было, устроила в мое отсутствие ежедневные – если они были не ежедневные, то это было не от тебя – свидания?
А ты в том же письме пишешь как бы программу нашей дальнейшей жизни, чтобы не мешать тебе в твоих занятиях или радостях, когда я знаю, в чем они.
Соня, голубушка, ты хорошая, добрая, справедливая женщина. Перенесись в мое положение и пойми, что иначе чувствовать, как я чувствую, то есть мучительную боль и стыд, нельзя чувствовать, и придумай, голубушка, сама наилучшее средство избавить не столько меня от этого, сколько себя самое от еще худших мучений, которые непременно в том или другом виде придут, если ты не изменишь свой взгляд на все это дело и не сделаешь усилие.
Я пишу тебе это третье письмо. Первое было раздраженное, вторую записочку оставляю. Ты увидишь из нее лучшее мое настроение прежнее. Уехал я в Пирогово, чтобы дать и тебе и себе свободу лучше обдумать и не впасть в раздражение и ложное примирение.
Обдумай хорошенько перед Богом и напиши мне. Во всяком случае, я скоро приеду, и мы постараемся все спокойно обсудить. Только бы не оставалось так, как есть; хуже этого ада быть не может для меня. Может быть, мне так надо. Но тебе, наверное, не надо.
Правда, есть еще два выхода – это моя или твоя смерть, но оба они ужасны, если это случится прежде, чем успеем развязать наш грех.
Открываю письмо, чтобы прибавить еще вот что: если ты не изберешь ни первого, ни второго, ни третьего выхода, то есть не перервешь совершенно всякие сношения, не отпустишь меня за границу с тем, чтобы нам прекратить всякие сношения, или не уедешь со мной за границу на неопределенное время, разумеется, с Сашей, а изберешь тот неясный и несчастный выход, что надо все оставить по- старому и все пройдет, то я прошу тебя никогда со мной про это не говорить. Я буду молчать, как молчал это последнее время, дожидаясь только смерти, которая одна может избавить нас от этой муки.
Уезжаю я тоже, потому что, не спав почти 5 ночей, я чувствую себя до такой степени нервно слабым, только попуститься – и я разрыдаюсь, и я боюсь, что не вынесу свидания с тобой и все, что может из него выйти.
Состояние мое я не могу приписать физическому нездоровью, потому что все время чувствовал себя прекрасно, и нет ни желудочных, ни желчных страданий.
Видимо перечитав, несколько раз письмо, Толстой немного успокоился, признав, что и сам не без греха, если все-таки согласился, что увлекся редакторшей «Северного вестника» Любовью Яковлевной Гуревич (1866-1940). Потому что, как не крути и не перефразируй свое оправдание – «чувство» к ней «продолжалось несколько дней».
Письмо осталось не отправленным, и Льву Николаевичу только оставалось выбирать, каким лучше воспользоваться выходом – четвертым или пятым, но когда, он, наконец, решался выходить из щекотливого положения, по-прежнему, натыкался на стену, между двумя дверьми, широко раскрытыми и с соответствующими номерами.
Не зная, что сделать с этим письмом, Толстой положил его в конверт и спрятал за обивку кресла, у себя в кабинете. В 1902 году, во время тяжелой болезни, он дал поручение дочери Марии, вынуть конверт и надписать, чтобы его вскрыли через 50 лет после его смерти. Но Толстой выздоровел, и Мария вернула ему письмо. В 1907 году Толстой передал это письмо на хранение своему зятю, мужу Марии – Н.Л.Оболенскому, чтобы тот, после его смерти, вручил его Софье Андреевне. Оболенский так и сделал.
1 июня 1897 года, приехав в Ясную Поляну на лето, Софья Андреевна возобновила свой дневник, в котором в этот же день отметила (в кратком изложении Л.Д.Опульской, «Материалы», стр.251), что «Лев Николаевич был необыкновенно нежен с ней и заботлив». Она умиляется его «старческой добротой», жалеет мужа, видя, как «он худеет», что «у него болит голова и недоумевает перед «наболелой ревностью».
Что касается Танеева, то, даже его первый приезд в Ясную Поляну в июне на два дня, сильно отразился на взаимоотношениях супругов. 3 июня 1897 года Софья Андреевна записывает в дневнике: «Мучительный страх перед неприятностями по случаю приезда Сергея Ивановича заслонил все другие чувства… Больно было ужасно видеть ужас и болезненную ревность Льва Николаевича при известии о приезде Танеева. И страданья его мне подчас невыносимы. А мои…». 4 июня опять, судя по ее дневнику, те же неприятности: «С утра тяжелый разговор с Львом Николаевичем о С.И.Танееве. Все та же невыносимая ревность. Спазма в горле, горький упрек страдающему мужу и мучительная тоска на весь день. Читала корректуры «Власти тьмы». Прекрасное, цельное и не лживое произведение искусства.
Потом пошла купаться, встретила Танеева, и это напомнило с грустью прошлогодние ежедневные веселые встречи… Я люблю и его музыку, и его характер: спокойный, благородный и добрый».
5 июня 1897 года, судя по дневнику, Софье Андреевне кажется, что неприятности позади: «Уехал сегодня Сергей Иванович, и Лев Николаевич стал весел и спокоен, а я спокойна, потому что повидала его».
Но, судя по записи в дневнике от 11 июня 1897 года, Софья Андреевна тоскует по композитору: «Иду домой сегодня, (сын) Сережа играет, и вдруг поднялось болезненно в сердце желание той музыки, которая приводила меня в чудесное состояние и дала столько счастья».
Тоска по Танееву не проходит и на следующий день, 12 июня: «Вспоминала прошлогоднее пребывание в Туле с Таней, Сашей и Сергеем Ивановичем. Наше катанье на лодке, обед на вокзале, возвращение ночью по поезду, неожиданное появление в Туле Андрюши, и беззаботное, радостное настроение».
Когда в июле в Ясную Поляну приехал А.Б.Гольденвейзер, Софья Андреевна попросила его сыграть все, что есть у неё «переписанного из сочинений Сергея Ивановича». «Приходится отметить, – опять подчеркивает, на что-то намекая Л.Д.Опульская в своих «материалах» (стр.208), – что игра Гольденвейзера, прекрасного пианиста, тоже нередко восхищала – об этом много записей в дневнике. Но Гольденвейзер не тревожил Толстого».
Но приезд в июле, к тому же, на целую неделю, самого Танеева, привёл к тому, что Толстой не выдерживает, выпавшие на его долю, страдания.
И вот, 8 июля 1897 года, он пишет прощальное письмо жене, и как отмечает в своих «материалах » Л.Д.Опульская, - «если бы под ним не стояла авторская дата, то можно было подумать, что оно относится к октябрю 1910 года. Оно не о личном, а более глубоком – расхождении в жизни»:
«Дорогая Соня, уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог, уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас, продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь, и раздражая вас, то сам, подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать,– уйти, во-первых, потому что мне, с моими увеличивающимися годами, все тяжелее и тяжелее становится эта жизнь и все больше и больше хочется уединения, и, во-2-х, потому что дети выросли, влияние мое уж в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие.
Главное же то, что как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние года своей жизни посвятить богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни со своими верованиями, со своей совестью.
Если бы открыто сделал это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, и в душе своей, главное, ты, Соня, отпусти меня добровольно, и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня.
То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь.
И потому я не осуждаю тебя, а напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, со свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной.
Ты дала мне и миру то, что могла дать, дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни, последние 15 лет мы разошлись.
Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому, что не могу иначе.
Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне.
Прощай, дорогая Соня. Любящий тебя Лев Толстой.
Толстой в этот мрачный период своей жизни надолго отодвинул от себя в дальний угол дневник и только 16 июля 1897 года, у него снова появляется нужда излить в него свою душу: «Не месяц уже не писано, а два с половиной. Много пережито и очень тяжелого и хорошего. Был болен. Очень сильные боли, кажется в начале июля. Работал все время над статьей об искусстве, и что дальше, то лучше. Кончил и поправляю сначала.
Маша вышла замуж (2 июня 1897 года за Николая Леонидовича Оболенского, внука сестры самого Толстого – Марии Николаевны), а жалко ее, как жалко высоких кровей лошадь, на которой стали возить воду. Воду она везет, а ее изорвали и сделали негодной. Что будет, не могу себе представить. (Если даже с церковными формальностями были трудности, – то священник не хотел венчать родственников, то требовал свидетельства об исповеди и причастии, которых у Марии не было). Что-то уродливо неестественное, (задумывается над этим, и ничего другого не представив, кроме прочитанного в одном из памфлетов Свифта, заканчивает свою мысль), как из детей пирожки делать. Толстой опять откладывает в сторону ручку и с какой-то грустью вспоминает строки не отправленного Маше 12 января 1897 года письма: «Милая Маша, хотя, когда ты тут, я редко говорю с тобой, теперь, когда мне очень скверно на душе, хочется твоего сочувствия. Из всех семейных ты одна, как ни сильна твоя личная жизнь и ее требования, ты одна вполне понимаешь, чувствуешь меня…».
В конце декабря 1896 года, когда стало известно Толстому, что намерение Н.Л.Оболенского жениться на Марии, привело к решению его дочери выйти за него замуж, он в течение двух дней 30 и 31 декабря 1896 года долго не мог успокоиться и, наконец, написал ей письмо: «Милая Маша. Два раза начинал тебе письмо и разрывал: и от того, что я не в духе, и от того, что сложно, неясно у меня в душе отношение мое к твоему положению (решению выйти замуж именно за Оболенского).
Ты верно угадала, что я вижу в этом падение, да и сама ты знаешь, но, с другой стороны, я радуюсь тому, что тебе жить будет легче, спустив свои идеалы и на время соединив свои идеалы с низшими стремлениями (я разумею детей).
Мое же чувство к тебе – к тебе духовной, к тому, что я люблю в тебе, остается совсем то же, потому что я знаю, что это духовное не изменится. А в прочем – кто вас знает. Исчезнуть не может, но затуманиться может. Ну, поживем если, то увидим. Одно несомненно, что я теперь люблю тебя такой, какая ты, и какой я.
То, что Коля думает и понимает трудность практической стороны жизни – это хорошо. А мне больше не верится, что это будет…».
Как и предполагал Толстой (сказав об этом в письме дочери от 18 декабря 1896 года), что, женившись, молодые не будут жить скромно, как вблизи от них в деревне Овсянниково М.А.Шмидт, или как он тогда выразился «по Марье Александровне», а напротив им потребуются «порядочные деньги, посредством которых жить».
И действительно Марии Львовне пришлось «спустить свои идеалы», когда она была вынуждена (часто болела, денег не было, а муж служить не хотел) воспользоваться своей долей наследства, от которой отказалась при разделе в 1892 году.
Толстой не мог понять (также, как и его младшая дочь Саша), «что могло быть общего между Машей и этим красивым молодым человеком с врожденной барской ленью во всем существе, с медленной подпрыгивающей походкой, плавной, грассирующей речью» (А.Л.Толстая, «Жизнь с отцом», стр.50-51).
Неужели (могла мелькнуть у него догадка), так повлиял на нее, выраженный Колей протест по поводу событий на Ходынке? После этих событий, Толстой, 28 мая 1896 года, упомянув в дневнике Танеева, затем, как бы всуе, отметил: «…Страшное событие в Москве, погибель 3000. Я как-то не могу, как должно, отозваться…».
Катастрофа произошла 18 мая 1896 года во время празднеств по случаю коронации Николая II, в Москве на Ходынском поле. В то время с рассказами о Ходынке в Ясную Поляну пришло несколько писем. В материалах у Л.Д.Опульской сказано: «Общество ждало отклика Толстого. 26 мая 1896 года писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912) написал Ф.Ф.Фидлеру»: «Граф Толстой не может не отозваться. Всегда пишет и говорит, что сердце его с народом. Его слово поднимет всю Россию».
Толстой отозвался на эти события только в 1910 году, написав рассказ «Ходынка», и то после того, как прочитал в начале того же года рукопись рассказа В.Ф.Краснова, который сам, 18 мая 1896 года был на Ходынском поле. Хотя рассказ Краснова Толстому не понравился он все-таки порекомендовал его напечатать, что было и сделано.
Колаша Оболенский отреагировал на эти события, как мог. В то время оканчивая Московский университет, он присоединился к студентам, служившим панихиду по жертвам Ходынки, и посещал их сходки. За это в ноябре 1896 года Оболенский ненадолго попал в Бутырскую тюрьму. Толстой тогда отнесся к выраженному Николаем Оболенским протесту с иронией, отметив: «Ему послали еды и белья, но персидского порошка не послали, потому что говорят, что сила клопов там непреодолимая».
Толстой снова взял в руки ручку обмакнул перо в чернильнице и, пробормотав, – «персидского порошка пожалел, а дочь отдал», – переключил свои мысли на старшую дочь Татьяну, которая тоже, как-то стала ослабевать духом. Но последующие записи, хотя и вызывали разные ассоциации в памяти, было не так горько делать как упоминая о Марии: Таня тоже нажила себе страдания. (Надо же увлеклась Михаилом Сергеевичем Сухотиным (1850-1914), который мало что был старше ее на 14 лет, но, оставшись вдовцом, имел еще шестерых детей). Миша мучается (подумать, в семнадцать с половиной лет). В Пирогове тоже та же беда (племянница, дочь его брата, Сергея Николаевича, вступила в гражданский брак с пироговским крестьянином В.Н.Васильевым).
Пробежав глазами, еще раз, что уже записал, Лев Николаевич сразу же нашел определенную закономерность в причине всех бед. Оказывается все так просто, что хочется закричать: Ужасно! Страсть источник величайших бед, мы не то что утишаем, умеряем, а разжигаем всеми средствами, а потом жалуемся, что страдаем. \\
Соню мне все последнее время жалко…. Чувствую себя одиноким. То, что моя жизнь никому не только не интересна, но скучно, совестно им, что я продолжаю заниматься такими глупостями.
Думал за это время (о характере мыслей, которые потом забывал, но помнил, что они выражались, как музыка; о сюжетах к драме; о том, что второе условие искусства – новизна и конечно о женщинах): «Тип женщины – бывают такие и мужчины, но больше женщины, – которые не могут видеть себя, у которых как будто шея не поворачивается, чтобы оглядеть себя. Они не то, что не хотят каяться, они не могут себя видеть. Они живут так, а не иначе потому, что так им кажется хорошо. И потому, если они что сделали, то потому, что это было хорошо. Такие люди страшны. А такие люди бывают умные, глупые, добрые, злые. Когда они глупые и злые, это ужасно…».
Видимо, Лев Николаевич, возмущается здесь потому, что Софья Андреевна, не так реагирует на его письма, как он рассчитывает. Возможно, тем самым, он оправдывает, в очередной раз, свое малодушие, отказавшись от намерения уйти из дома, выраженное в не отправленном письме от 8 июля 1897 года. Судя по дневнику, оправданием этому служило здоровье, – как всегда, в самый ответственный момент, заболел (был болен, …очень сильные боли, кажется в начале июля), почувствовал заботу и как-то, было уже неудобно, решиться на побег. А письмо осталось. Не зная, что с ним дальше делать, он впоследствии, сделал распоряжение, вручить его Софье Андреевне после его смерти, что и было исполнено.
Отметив в дневнике, что пропустил три дня, Толстой 21 июля 1987 года, в частности, записывает в дневнике: «…Окружающая жизнь очень мизерна. Дети не радуют. Не зная от чего: от желудка ли, от жары или излишних физических движений – чувствую себя по вечерам очень слабым…».
Вероятно, уйти Толстому, когда его жена имела основания ревновать его к Л.Я.Гуревич, было невозможно. Неправильно бы поняли, не только его близкие, но и те, кто по наивности разделял его идеалы, к которым, как показывала личная жизнь «нашего праведника», надо стремиться, но не обязательно буквально следовать.
Как пишет Янко Лаврин (Лев Толстой, стр.199): «В этот критический период у Софьи Андреевны (как и у Льва Николаевича) ее нервозность приобрела характер истерии, особенно в июле 1897 года, когда она, со своей стороны приревновала мужа к Любови Гуревич, миловидной редакторше «Северного вестника», для которого Толстой намеревался дать несколько статей».
23 октября 1896 года Толстой прочитал в оригинале статью Э.Карпентера «Современная наука» в его сборнике: («Цивилизация, ее причина и излечение», Лондон, 1895 год) и под впечатлением отметил: «Прекрасная статья Карпентера о науке. Все мы ходим близко около истины и с разных сторон раскрываем ее». В тот же день в письме Софье Андреевне он скажет» «Еще событие у меня то, что читаю прекрасную, удивительную статью Карпентера, англичанина, о науке».
Толстой принимает решение перевести эту статью и напечатать ее в России. Перевод выполняет сын Толстого Сергей Львович и передает ее в «Северный Вестник». 27 апреля 1897 года Л.Я.Гуревич с «радостью сообщает Толстому, что получила перевод «прекрасной статьи», и просит его написать к этой статье предисловие. Это предложение заинтересовало Толстого, потому что, статья Карпентера, оказалась близкой его взглядам, так как в ней «критиковалась современная наука за абстрактность, рассудочность и оторванность от главных этических проблем эпохи». И предложение написать предисловие к статье, Толстым было принято.
Возможно, что еще тогда, это становится известным Софье Андреевне, если 19 мая 1897 года, в своем не отправленном письме Толстой, упоминает Гуревич, словно в чем-то, опять оправдываясь. Разумеется это не за те события давно минувших дней.
А была тогда «страшная буря» 6 февраля 1895 года, со стороны Софьи Андреевны, за «несчастный рассказ» («Хозяин и работник») и как далее в дневнике: «Она была нездорова, ослабла, измучилась из-за болезни милого Ванечки, и я был не здоров последние дни. Началось с того, что она стала переписывать (рассказ) с корректуры.
Когда я спросил зачем…» (что было дальше записано, мы не знаем, так как из дневника вырван лист, но можем догадываться), если после этого Толстому пришлось сразу обращаться к Богу: «Помоги не отходить от тебя, не забывать, кто я, кто и зачем я? Помоги.
Что случилось (считает в своих «материалах» Л.Д.Опульская), восстанавливается по дневнику Софьи Андреевны, на этот раз более подробному, и письму Толстого от 14 февраля 1895 года к Страхову (изложив историю на отдельном листочке, Толстой попросил сжечь его, но Страхов не сделал этого).
В письме Страхову Толстой излагает суть дела так: «Рассказ мой наделал мне много горя. Софье Андреевне было очень неприятно, что я отдал его даром (отказавшись от литературной собственности, Толстой не брал гонораров) в «Северный Вестник», и к этому еще присоединился почти безумный припадок (не имеющий никакого основания) ревности к Гуревич. Совпало это с женскими делами, и мы все пережили ужасные дни. Она была близка к самоубийству, и только теперь на 2-й день она опять овладела собой и опомнилась. Вследствие этого она напечатала объявление, что рассказ выйдет в ее издании, и вследствие этого писала вам, спрашивая размера гонорара за лист. Она хотела потребовать с Гуревич гонорар и отдать его в «Литературный фонд».
Буря бушевала почти две недели, и когда к 15 февраля 1895 года начала стихать, Толстой записал в дневнике: «Бог помог мне; помог тем, что хотя слабо, но проявился во мне с любовью, любовью к тем, которые делают нам зло. То есть единственной истинной любовью. И стоило только проявиться этому чувству, как сначала оно покорило, зажгло меня, а потом и близких мне, и все прошло, то есть прошло страдание. Следующие дни были хуже. Она положительно была близка к сумасшествию и к самоубийству. Дети ходили, ездили за ней и возвращали ее домой, Она страдала ужасно.
Это был бес ревности, безумной, ни на в чем не основанной ревности.
Стоило мне полюбить ее опять, и я понял ее мотивы, а, поняв ее мотивы, не то, что простил ее, а сделалось то, что нечего было прощать. Послал вчера (рассказ) в «Северный вестник», и здесь (его) печатают у ней (в издаваемых Софьей Андреевной «Сочинениях гр. Л.Н.Толстого») и в «Посреднике».
21 февраля 1895 года сама же Софья Андреевна записала в своем дневнике: «И мне и «Посреднику» повесть отдана. Но какою ценою! Поправляю корректуры и с нежностью и умилением слежу за тонкой художественной работой. Часто у меня слезы и радость от нее».
Интересно другое, (как отмечает Л.Д.Опульская) что «Софья Андреевна сердилась на то, что рассказ не дан в ее издание, а будет содействовать успеху дорогого журнала (подписка стоила 13 рублей). Л.Я. Гуревич, в свою очередь, телеграфировала из-за границы, прося задержать хотя бы на месяц выход «Хозяина и работника» в других изданиях. Толстой (видимо был вынужден) ответил 28 февраля 1895 года телеграммой (на французском языке): «Очень огорчен невозможностью сделать иначе».
В итоге 5 марта 1895 года «Хозяин и работник» появился одновременно в трех изданиях: третьем номере «Северного вестника», приложении к 13-му тому 9-го издания «Сочинений гр. Л.Н.Толстого» и «Посреднике». При этом для «Посредника» (как всегда, являясь злейшим врагом идентичности своих текстов в разных изданиях, даже издающихся одновременно) еще раз просмотрел рассказ (и сделал всего лишь 184 исправления), и по этому тексту он печатается в современных изданиях (видимо, оставляя простор для выбора приемлемого варианта для чтения самым въедливым читателям).
Понятно, что события 1895 года, не смогли бы сыграть своей роли летом 1897 года, если бы в 29 июля не появился в Ясной Поляне редактор «Северного вестника» А.Л.Флексер (Волынский). Судя по его длинному письму, по возвращению в Петербург, именно он подлил масла, если не в огонь, но в никогда не остывавшую печь взаимной ревности, между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной. Когда Толстой «увлек Волынского за руку к графине Софье Андреевне на веранду», можно только представить, какие это вызвало у нее ассоциации.
Волынский, говоря в письме, что после чая, (где говорили об искусстве, и Толстой раздражал его своими суровыми приговорами), на прогулке, был в отличной форме: «… В нечищеных сапогах, с откровенными дырьями, сквозь которые просвечивали голые ноги, он был чудесен. Иногда мне казалось, что между ним и графиней еще движется стихия живой страсти».
Вечером, когда Волынский заглянул в переписанную на машинке Татьяной Львовной уже готовую первую главу (трактата об искусстве) и сказал, что, видимо, там доказывается, что искусство «самое глупое» дело, Толстой ответил: «Нет, я не говорю этого в своей книге. Потребность искусства неискоренима в человеке. Я доказываю только, что современное искусство не удовлетворяет этой потребности».
Вероятно, сразу же зашел разговор о печатании этой статьи, и, возможно, в присутствии Софьи Андреевны. Судя по тому, что на реакцию Софьи Андреевны, Волынский не обратил внимания, или сделал вид, что не понял, чем она вызвана, Толстой отвел его в сторону и дал понять, что есть «тяжелые обстоятельства, которые мешают ему распорядиться с этим делом с полною свободою».
Волынский, видимо, не нашел ничего умнее, как посоветовать Гуревич, обратиться с просьбой о напечатании статьи об искусстве в «Северном вестнике» непосредственно к самой Софье Андреевне. Л.Я.Гуревич то же видимо не понимала, что делает, когда написала 3 августа 1897 года ей письмо, с просьбой дать статью для журнала. Но Софья Андреевна, видно, даже тогда, не могла простить историю с «Хозяином и работником» и поэтому эту просьбу проигнорировала.
В то время, как и Волынский в своем письме, и Софья Андреевна отмечала в дневнике прекрасное самочувствие Толстого: «Лев Николаевич сегодня часа три играл с азартом в теннис, потом верхом ездил в Козловку; хотел ехать на велосипеде, но он сломался. Да, сегодня он писал много, и вообще молод, весел и здоров. Какая мощная натура!»
Хотя после последней записи в дневнике (21 июля) прошло уже 16 дней, Толстой, словно этого не замечает. 7 августа 1897 года он пишет о своем самочувствии, как о какой-то поразившей его болезни: «За это время пропасть гостей…. Очень плохо, слабо живу. Нынче еще приехали…. Очень мало доброты. Продолжаю работать над своей статьей об искусстве. И, странно сказать, – мне нравится». Толстого радует, что и на гостей статья производит впечатление «то самое, какое производит и на него». И при всей пропасти гостей в доме, он в итоге признается: «Я совсем один и слабею».
Вот и верь после этого признаниям Волынского и Софьи Андреевны, или что-то такое произошло, что так подорвало моральный дух писателя, через несколько дней, когда он был «молод, весел и здоров».
Судя по последующим записям в дневнике за 8, 9 и 15 августа 1897 года, Толстой продолжает работать над статьей об искусстве, регистрируя для памяти посетителей: «Был мужик…. Приехал Стахович. Читал статью…. Был Ломбразо, ограниченный, наивный старичок. Приехал Лева (сын) с женой…. Буланже – милый. Был тяжелый Леонтьев. Сейчас (15-го) Таня приехала со свидания с Сухотиным. Позвала меня к себе. Мне очень жаль ее. А что я могу ей сказать? Да будет, что будет. Только бы не было греха…. Кое-что хотелось записать, но забыл….
Видимо потом из этого кое-что, он что-то вспомнил и, в частности, записал: «…С тех пор, как я стал стар, я стал смешивать людей: например, детей: Серёжу с Андреем, Мишу с Ильей, также я смешиваю чужих, принадлежащих или отмеченных в моем мозгу к одному типу. Так что я знаю не Андрея, Сережу, а знаю собирательное лицо, к которому принадлежат Андрей, Сережа».
Просматривая 15 августа 1897 года «Русские ведомости» №221 от 12 августа 1897 года, Толстой наткнулся на сообщение о миссионерском съезде и отметил в дневнике: «Возмутительный отчет о миссионерском съезде в Казани». Из отчета следовало, что съезд высказался за то, чтобы насильно отбирать детей у родителей-сектантов и воспитывать их в церковных приютах. Толстой даже не мог предположить, как ему скоро придется вмешаться в одно из таких, осуществленных на практике «святых» дел.
В это время Льва Николаевича очень волновала будущая судьба дочерей Марии и Татьяны. Обе в то время находились в Крыму: Мария Львовна в августе тяжело переболела брюшным тифом. Толстому хотелось, чтобы у дочерей все было нормально, но получалось далеко не так. Л.Д.Опульская («Материалы», стр.262-263), так характеризует сложившуюся тогда обстановку:
«Оболенским надо было устраивать свою семейную жизнь, а милый, чистый, добрый, но не приспособленный ни к какому делу Николай Леонидович едва ли мог задумываться об этом. Толстой не хотел, чтобы молодые поселялись у Е.В.Оболенской ( ) в Покровском с братьями и сестрами, «потому что халат – эта жизнь не требует никаких усилий, а сел и живи. А усилия им обоим, и особенно Коле, были нужны. Ему необходимо было начать свою женатую жизнь деятельностью, и энергичной деятельностью…. Можно было заняться виноградниками в Алуште, и купить имение в … (Толстой не уточнял где), где бы ни было и энергически хозяйствовать, и в земстве служить, можно служить и в банке, и в инспекторах, и в суде. Требовательным можно быть после того, как начал действовать, и тогда отыскивать наиболее согласную с требованиями совести, а не тогда, когда никакой не начал и когда требования совести нарушены более всего праздностью».
Ну, что поделаешь, если Коля Оболенский, воспринимал «отца ничего неделания», так буквально, что это коробила «кандидата» в основатели новой религии.
Тогда «кончилось тем, что было куплено Малое Пирогово, близ Сергея Николаевича, брата Толстого, (на деньги выделенные Марии Львовне при разделе имущества писателя) и Оболенские поселились там. Они часто проводили время в Ясной Поляне и Хамовниках, по-прежнему, теперь уже вдвоем, помогая в переписке и копировании рукописей» Толстого.
21 августа в Ясную Поляну приехал грузинский писатель И.П.Накашидзе. С Накашидзе Толстой отправил кавказским духоборам письмо, начав его словами сочувствия: «Любезные братья, страдающие за учение Христа!… и закончив словами сожаления: «Многое хотел я сказать вам и узнать вас. Если Бог велит, – свидимся. Пока прощайте, братцы. Целую вас. Брат ваш слабый, но любящий вас. Лев Толстой».
Когда в шведских газетах появились сообщения о предполагаемом присуждении первой Нобелевской премии по литературе Толстому, тот уже 27 августа 1897 года, подготовил первую редакцию письма в шведские газеты о своем отношении к этому мероприятию. В письме он предлагал присудить нобелевскую премию вместо него духоборам, которые больше всех сделали для мира и, как отметила в своем дневнике Софья Андреевна, «отказавшись от военной службы и протерпевши так жестоко за это». Историю этого вопроса хорошо освятила в своих «материалах к биографии писателя за 1892-1899 годы» Л.Д. Опульская (стр.260-261):
«Умерший в 1896 году, шведский инженер, изобретатель динамита, пацифист Альфред Нобель (1833-1896) завещал на проценты от оставленного им огромного капитала ежегодно присуждать и выдавать премии – за лучшие произведения и труды, служащие делу мира и объединению народов, и за лучшие труды в области точных наук. Решением вопроса занималась шведская Академия. В 1897 году это делалось впервые…. 28 августа 1897 года в день рождения Толстого, впервые за 35 лет совместной жизни, супруги не были вместе. Софья Андреевна уехала с сыном Михаилом Львовичем, сдававшим в Москве переэкзаменовку за 6-й класс лицея (к огорчению матери, сын остался на второй год)…. Ознакомившись с тем, что Толстой написал в шведскую газету Софья Андреевна расстроилась: в письме «грубо и задорно» критиковалось русское правительство. Толстой обещал письмо смягчить. Поэтому 2 сентября 1897 года он известил Черткова, что письмо, которое ему привезут, будет еще исправлено.
В письме Толстой расценивал отказ от воинской службы, как подвиг простых русских людей, которых преследуют и заставляют страдать за свои убеждения. Поэтому, считал он, присудив премию духоборам, деньги Нобелевскому комитету следует передать их семьям «прямо на местах или тем лицам, которые им будут указаны». В тоже время Толстой надеялся получить деньги на помощь духоборам от состоятельных людей, обратившись к ним в своих письмах.
А Софья Андреевна возросшую общественную активность мужа воспринимает, по-своему, и явно с горечью, делает 4 сентября 1897 года в дневнике такую запись: «Лев Николаевич всегда и везде говорит и пишет о любви, о служении Богу и людям.… С утра и до поздней ночи вся жизнь Льва Николаевича проходит без всякого личного отношения и участия к людям….
И день за днем идет эта правильная, эгоистическая жизнь без любви, без участия к семье, к интересам, радостям, горестям близких ему людей».
Следует отметить, что именно с этого времени Толстой начинает проявлять постоянную заботу о судьбе духоборов. Как отмечает Л.Д.Опульская («Материалы», стр.125) «случилось так, что в декабре 1894 года Толстому довелось впервые встретиться с русскими людьми, вера которых воспрещала им убийство и, стало быть, военную службу. Это были духоборы. Их руководитель П.В.Веригин пересылался по этапу из Архангельской губернии в Сибирь и находился в московской Бутырской тюрьме. Позади у него остались семь лет ссылки, предстояло столько же. Проводить Веригина приехали его брат Василий Васильевич, Василий Гаврилович Верещагин (умерший впоследствии по пути в Сибирь) и Василий Иванович Объедков. С ними-то 9 декабря 1894 года встретился Толстой: повидать самого Веригина не было возможности, он на другой же день отправлялся с партией в город Березов Тобольской губернии.
Толстого сопровождали два спутника – друг и биограф Павел Иванович Бирюков (1860-1931) и единомышленник Евгений Иванович Попов (1864-1938).
Бирюков в «Биографии Л.Н.Толстого» (том 3, стр.241-242) поделился с нами впечатлениями от этой встречи: «Мы вошли в большой просторный номер гостиницы и увидали трех взрослых мужчин в особых красивых полукрестьянских, полуказацких одеждах, приветливо, с некоторой торжественностью поздоровавшихся с нами…. Всех нас поразил скромный, но достойный вид этих людей, представлявших не только местную, но как будто расовую или, по крайней мере, национальную особенность; никому из нас ни раньше, ни после не приходилось встречать подобных людей вне духоборческой среды. Мы, а преимуществу Л.Н.Толстой, стали расспрашивать их о их жизни и взглядах.
Короткое время свидания и малое знакомство с их прошлым не позволило нам вдаться в подробности, и мы могли обменяться только общими положениями.
На большую часть вопросов Льва Николаевича по поводу насилия, собственности, церкви, вегетарианства они отвечали согласием с его взглядами».
Судя по воспоминаниям П.В.Веригина, его брата и Верещагина «очень удивило, что во Льве Николаевиче они мало заметили «графского», так слышали, что тот имеет титул графа… их поразила простота обращения и приятная, как бы душевная осанка».
После встречи с духоборами Толстой написал сотрудничавшему в «Посреднике» Н.Н.Иванову (сыну бывшего фельдшера, Бутырской тюрьмы, тогда арестованному, за то, что тот давал читать запрещенные произведения Толстого) следующее: «Сосланный Виригин виновен в том, что оживил дух застывших в своих верованиях и опустившихся по жизни единоверцев, вызвал в них истинную христианскую жизнь, так что они стали отдавать все свое имущество в общину, перестали курить, пить, есть мясо и отказываются от присяги и военной службы». Досадуя в письме на то, что «преследуют и гонят людей» за распространение его книг, «а не гонят того, кто их написал и пишет» он старается подбодрить мученика за его идеи тем, что считает: «Искать гонений грех, но нельзя не признавать того, что гонения невинные, за правду желательны, потому что доказывают хоть то, что ты не вместе с гонителями».
Судя по всему, Толстой от пассивной критики в это время не прочь был перейти к активным действиям. Неудивительно, что, когда проездом в Петербург к нему заехал В.Г.Чертков, чутко уловившим перемены в Толстом, от общения с духоборами, тот не отказался, от предложения Владимира Григорьевича сфотографироваться на память с группой своих единомышленников. Не поставив в известность семью о своем решении, Толстой сфотографировался, с группой друзей, «близких по духу», а именно с Чертковым, Бирюковым, Горбуновым-Посадовым, Трегубовым и Поповым.
31 декабря 1894 года Толстой уже пожалел об этом, отметив в дневнике: «Вышло очень неприятное столкновение из-за портрета. Как всегда, Соня поступила решительно, но не обдуманно и нехорошо». Но, судя по записи в дневнике, Софья Андреевна популярно объяснила мужу, какого она мнения от этой затеи Черткова: «Снимаются группами гимназии, пикники, учреждение и прочие. Стало быть, толстовцы – это учреждение. Публика подхватила бы это, и все старались бы купить Толстого с учениками. Многие бы насмеялись. Но я не допустила, чтоб Льва Николаевича стащили с пьедестала – в грязь».
Поэтому Софья Андреевна забрала из заведения фотографа Мея все негативы и 10 ноября 1895 года отметив в дневнике, что «ночью била негативы фотографий группы темных и своей бриллиантовой серьгой старалась из них прежде вырезать лицо Льва Николаевича, что плохо удавалось…».
Таким радикальным образом русское общество было избавлено от «президиума общества по защите духоборов», к неудовольствию Черткова, хотя тому, «самому близкому другу», дочери Толстого Мария и Татьяна принесли извинения, так и не приняв его сторону (потому, что сами оказались не в курсе этого дела)…
…Но вернемся снова к Толстому. Из его дневника узнаем: «Нынче 19 сентября (1897 года). Больше месяца не писал. Все то же». Работа над статьей об искусстве…. За это время важное, это высылка Буланже».
Как и следовало ожидать, за свою деятельную защиту духоборов П.А.Буланже был выслан за границу.
Работу (над трактатом об искусстве) перебивало мне только письмо (и не только оно) в шведские газеты по случаю премий Нобеля о духоборах. Соня боится. Очень жаль, но я не могу этого не сделать.
Испугавшись репрессий за резкую критику Толстым русского правительства в письме о Нобелевской премии, Софья Андреевна, по ее словам «пришла в отчаяние, плакала, упрекала мужа, что он не бережет своей головы и без нужды дразнит правительство».
Еще перебило работу приезд молокан из Самары – об отнятых детях, т. к. хлопоты об их возвращении не увенчались успехом. Хотел писать (об этом) за границу и написал даже очень резкое и, мне казалось, сильное письмо, но раздумал (отправлять). Перед богом не следовало. Надо ещё попробовать.
Нынче написал (об отнятых детях) письмо государю, Олсуфьеву, Хису (Heath’у) и Л.И.Чертковой, (а также Анатолию Федоровичу Кони [1844-1927] – юристу, судебному и общественному деятелю) и отправил молокан.
Ещё перебило (работу над трактатом) нездоровье: страшный чирей на щеке. Я думал, что рак, и рад, что не очень неприятно было думать это.
И опять, словно заигрывая со смертью, с оптимизмом для потомков, заявляет: «Получаю новое назначение, то, которое, во всяком случае, не минует меня».
21 сентября 1897 года Толстой пишет письмо Софье Андреевне, «что он не может руководиться в своем писании её суждениями. Писал от души, и с добрым чувством. С таким же чувством приняла и она». В этот же день он заканчивает с помощью, находившего в Ясной Поляне шведа В.Ланглета, перевод письма, так испугавшего жену, для шведской газеты. Видимо Лев Толстой, неправильно истолковал чувства жены, если она уже 22 сентября была в Ясной Поляне. Но её визит ничего не изменил - письмо о Нобелевской премии Толстой отправил 23 сентября, и оно было напечатано в газете «Stokholm Tagblat» в октябре 1897 года.
Что касается Комитета по Нобелевским премиям, то предложение Толстого даже не рассматривалось, поскольку премии присуждались только конкретным лицам. Следует отметить, что по новейшим исследованиям документов норвежским ученым Гейром Хьетсо, когда снова возникли предложения о Нобелевской премии для Толстого, последовало отрицательное решение Шведской академии в связи с «анархизмом» русского писателя.
Далее, известно, что до 14 октября 1897 года Толстой продолжает работать над трактатом об искусстве. В дневнике за этот день у него отмечено: «Третий день как приехала Соня. Мы одни с ней. Она переписывает. Очень помогает…».
Кроме рассуждений о самом искусстве и других наблюдений, в частности он пишет: «Вообще – не знаю, отчего – нет у меня того религиозного чувства, которое было, когда прежде писал дневник ни для кого. То, что его читали и могут читать, губит это чувство. А чувство было драгоценное и помогавшее мне в жизни.
Начну с нынешнего 14-го числа писать опять по-прежнему так, чтобы никто не читал при моей жизни. Если будут мысли, стоящие того – могу и выписывать и посылать Черткову».
Надо полагать, что это намерение оказалось неосуществимым, хотя в последствии Толстой вел и «тайный дневник» и «дневник для одного себя», но всегда получалось, что содержание его дневников, недолго составляло тайну для его окружения.
Главное, в этот день, он, наконец, в письме дочери Татьяне, решается объяснить свое отношение к ее возможному замужеству. Когда еще летом Софья Андреевна, впервые сказала мужу о такой возможности, то, как та отметила в своем дневнике: «он был ошеломлен, как-то сразу это его согнуло, огорчило, даже не огорчило, а привело в отчаяние». Начав свое письмо словами: «Получил твое письмо, милая Таня, и ни как не могу ответить так, как бы ты хотела. Понимаю, что развращенный мужчина спасается женившись, но для чего чистой девушке идти на эту каторгу, трудно понять…».
Сравнивая далее влюбленность с болезнью, которой следует остерегаться, он низводит ее до обыкновенного пьянства, говоря: «Ты не жила без этого пьянства, и теперь тебе кажется, что без этого нельзя жить. А можно…». И в качестве примера он рассказывает о своем старшем брате Николае, когда тот был, у цыган, выпив лишнее, не смотря на все уговоры брата Сергея не делать этого, проявил желание пойти плясать. Понимая, что Николай настолько пьян, что его никак нельзя уговорить воздержаться, Сергей тогда сказал: «пляши, и, вздохнув, опустил голову, чтобы не видеть того унижения и безобразия…».
Так образно выразив свое отношение к влюбленности Татьяны, он повторил снова, но уже по отношению к ней, слова брата Сергея: «Пляши! Больше ничего не могу сказать, если это неизбежно. Но не могу не видеть, что ты находишься в невменяемом состоянии, что еще больше подтвердило мне твое письмо…».
Казалось, на этом письмо можно было закончить, но, примерно еще на его целую треть, Толстой не перестает рассуждать, о болезненном состоянии дочери и как его можно было избежать.
Работа над трактатом об искусстве продвигается плохо, не смотря на помощь жены. 16 октября 1897 года, он, между прочим, записывает в дневнике:
«Много у меня записано соображений, правил которые, если помнить, то будет хорошо жить. Да правил слишком много, и все помнить всегда нельзя.
То же с подделкой под искусство. Правил слишком много, и все помнить нельзя. Надо, чтобы шло изнутри, руководилось бы чувством…».
Судя, далее, по дневнику, мешают сосредоточиться разные приходящие в голову мысли, от встреч и новых впечатлений. Все у него вызывает в душе возмущение и «ложная» религия, и повсеместная бедность. Так 26 октября 1897 года он пишет: «Престранное дело. Третий день не могу писать. Недоволен всем, что написал. Есть новое и очень нужное для «Искусства» и ни как не могу ясно выразить…».
21 октября 1897 года Толстой получает корректуру перевода статьи Карпентера о науке из «Северного вестника», и в тот же день начинает писать предисловие к ней. О работе над «предисловием» он периодически упоминает в своих записях вплоть до 28 ноября 1897 года.
28 октября 1897 года, в письме дочери Марии, он сожалеет, что косвенно благословил брак дочери с М.С.Сухотиным, который был на 14 лет старше его дочери и кто тому же имел 6 детей: «Я сказал Тане: пляши, а теперь страшно за то, что сказал, а хочется сказать: Таня, голубушка не надо».
Дальнейшая запись в дневнике от 10 ноября 1897 года, кое-что проясняет, и можно догадаться, что причиной депрессии, становятся отношения с женой: «Нынче 10 ноября. Ясная Поляна. 97. Много пережито в эти две недели. Работа все та же. Кажется, что кончил…. Была Соня, уезжала в Москву из Пирогова, куда мы вместе ездили. Там было хорошо….». Следовательно, в Ясной поляне ему одному плохо, и в голове, видимо, нехорошие мысли о жене и Танееве. О том, как ему было тяжело, в дневнике от 12 ноября 1897 года говорит запись: «Третьего дня от (дочери) Тани была телеграмма, что задержалась. Очень жду ее».
Но жажда общественной деятельности пересиливает в итоге даже ревность, так что далее в дневнике читаем: «Самое важное то, что решил писать воззвание: некогда откладывать…». Задуманное тогда «воззвание» против существующего строя жизни Толстой писал в течение 1897-1898 года. Известно несколько его редакций, из которых он затем составил две статьи: «Неужели это так надо?» и «Где выход?».
14 ноября 1897 года Толстой отмечает в дневнике, что получил письма и размышляет: «Недовольное письмо от Сони. И Таня пишет, что недовольна, что я не еду. Хочу одного: сделать как лучше перед богом. Не знаю еще как. Ночью дурно спал – мысли нехорошие, недобрые. И апатия. Нет охоты заниматься».
17 ноября 1897 года Толстого одолевают разные мысли, в том числе о жизни и как ни странно, о зарождающейся любви: «Второй день думаю с особой ясностью вот о чем:
1) Моя жизнь – мое сознание моей личности все слабеет и слабеет, будет еще слабее и кончится маразмом и совершенным прекращением сознания личности. В тоже время, совершенно одновременно и равномерно с уничтожением личности, начинает жить и все сильнее живет то, что сделала моя жизнь, последствия моей мысли, чувства; живет в других людях, даже в животных, в мертвой материи. Так и хочется сказать, что это будет жить после меня».
2) Еще думал нынче же совсем неожиданно о прелести – зарождающейся любви, когда на фоне веселых, приятных милых отношений начинает вдруг блестеть звездочка. Это вроде того, как пахнущий вдруг запах липы или начинающая падать тень от месяца. Еще нет полного цвета, нет ясной тени и света, но есть радость и страх нового, обаятельного. Хорошо это, но только, когда в первый и последний раз…».
В письме к жене от 17(18) ноября 1897 года Толстой сообщает, что «написал предисловие к статье Карпентера о науке, которая мне кажется очень важной, так что, может быть, я выкину ее из статьи об искусстве».
Через несколько дней ясность мышления у Толстого уже не та, если он 20 ноября 1897 года пишет: «…Письма были от Сони, одно неприятное. А нынче хорошее. С ужасом думаю о поездке в Москву». Понять здесь Льва Николаевича можно только в том случае, если слово «хорошее» воспринимать в ироническом смысле. В тоже время, навязчивые мысли в связи с ожиданием дочери Тани, приводят к кошмарным снам, о чем он 22 ноября 1897 года делает запись: «Видел во сне очень живо, что Таня упала с лошади, разбила себе голову, умирает, и я плачу по ней».
Можно сказать, что сон Толстого был пророческим, так как 24 марта 1900 года он отметит в дневнике: «Вчера была страшная операция Тани. (Но дальше, вместо благодарности хирургу, после ее благополучного завершения, более, чем странные рассуждения, словно он недоволен, что его дочь осталась жива). Я, несомненно, понял, что все эти клиники, воздвигнутые купцами, фабрикантами, погубившими и продолжающими губить десятки тысяч жизней, – дурное дело. То, что они вылечат одного богатого, погубив для этого сотни, если не тысячи бедных, – очевидно дурное, очень дурное дело. То же, что они при этом выучиваются будто бы уменьшать страдания и продолжать жизнь, тоже нехорошо, потому что средства, которые они для этого употребляют, таковы (они говорят: «до сих пор», а я думаю по существу), таковы, что они могут спасать и облегчать страдания только некоторых избранных, главное же потому, что их внимание направлено не на предупреждение и гигиену, а на исцеление уродств, постоянно непрестанно творящихся».
В своих воспоминаниях младшая дочь Толстого Александра, ссылаясь на рассказ матери, об этом пишет так: «Таня хворала, у нее постоянно был насморк и головные боли. Болезнь то улучшалась, то снова ухудшалась, наконец, головная боль настолько усилилась, что она лежала сутками не в силах двигаться и говорить. Доктора определи нагноение в лобной пазухе, так называемый фронтит. Надо было делать трепанацию черепа… Отец сидел рядом с операционной. Вдруг дверь отворилась и с засученными рукавами, в белом халате вышел профессор фон Штейн. – Лев Николаевич, хотите посмотреть на операцию? На столе захлороформированная, без сознания лежала Таня. Кожа на лбу была разворочена, череп пробит, лицо в крови. Отец побледнел и зашатался. Его подхватили под руки…» (стр.53).
Оплакивать дочь не пришлось, и это видимо очень расстроило нашего пророка и он пускается в рассуждения (отмеченные выше в его дневнике), которые посчитал бы кощунственными в той ситуации, даже самый последний не имеющий совести человек.
Но и тогда все обошлось. 24 ноября 1897 года Толстой облегченно вздыхает: «Таня нынче приехала благополучно. Маша (средняя дочь) все плоха. Но не огорчилась моим письмом. Очень люблю их обоих. Таня завтра едет в Москву. Я обещал ехать с (сыном) Левой, но берет страх, как подумаю…». Весь день потом обдумывает свое положение и в конце подводит итог: «Странная судьба: с отрочества начинаются тревоги, страсти, и думается: женишься, и пройдет. У меня и прошло, и был длинный период – лет восемнадцать – спокойствия. Потом стремление изменить жизнь, и отпор обратный. Борьба, страдания и, наконец, как будто гавань и отдых. Не тут-то было. Самое тяжелое начинается и продолжается и, должно быть, проводит в смерть. Это смерть того и другого – при теперешних условиях страшнее всего».
С этими «веселыми» мыслями Толстой видимо отошел ко сну и 25 ноября 1897 года, когда проснулся, то удивился, что «жив». С этого слова начинается дневниковая запись, а далее: «Таня уехала. Очень мила – хороша. Я дурно сделал, что говорил с ней про своё положение…». Опять видимо обсуждал с ней увлечение жены с Танеевым, а дочь видимо считала, что не надо это воспринимать всерьёз. Опять в дневник заносятся не связанные друг с другом мысли, но последняя все равно характеризует, даже чересчур образно, его душевное состояние: «Раки любят, чтобы их варили живыми. Это не шутка. Как часто слышишь, да и сам говорил или говоришь то же.
Человек имеет свойство не видать страданий, которые он не хочет видеть. А он не хочет видеть страданий, причиняемых им самим.
Как я часто слышал про кучеров, про поваров, лакеев, мужиков в их работе – «им очень весело». Раки любят, чтоб их варили живыми».
26 ноября 1897 года он пишет жене: «Вчера проехала Таня, пробыв один день, и оставила мне радостное впечатление освобождения от своей одержимости (увлечения Сухотиным). Дай Бог, чтобы только удержалось то хорошее свободное состояние, в котором она находится, и еще чтобы она нашла себе по сердцу и хорошую работу…. Твое рассуждение о том, что гораздо важнее и нужнее мне быть в Москве с тобою, чем-то, что что-то такое будет написано немножко хуже или лучше, поразительно своей несправедливостью….
Это не значит, что я не хочу приехать в Москву, не хочу сделать все, что могу, чтобы сделать твою жизнь более хорошею, или что просто сам не желаю быть с тобой, напротив, я очень желаю этого, но это значит, что рассуждения твои очень несправедливы, также как и рассуждения твои, которые ты почерпнула из чтения биографии Бетховена, что цель моей деятельности есть слава. Слава может быть целью юноши или очень пустого человека. Для человека же серьезного и, главное, старого цель деятельности не слава, а наилучшее употребление своих сил. Все мы призваны жить и действовать, как лошадь на конке. Будем ли мы ездить в славянский базар (в ресторан в Москве), копать руду (осуществляя идею сына Левы построить рудник в имении), играть на фортепиано (вероятно намекая, что на пару с Танеевым), что-нибудь мы должны делать. Человек же не глупый и поживший – я считаю, себя таким – не может не видеть, что единственное благо, одобряемое совестью, есть работание той работы, которую я лучше всего умею делать и которую считаю угодной Богу и полезной людям.
Вот тот мотив, который руководит мною в моей работе, а про славу я уж давно спрашивал себя: что, буду ли я точно также работать, если никогда не узнаю, одобрится ли моя работа людьми или нет, и искренно отвечаю, что, разумеется, что буду также работать.
Я не говорю, что я равнодушен к одобрению людей, одобрение мне приятно, но оно не есть причина, мотив моей деятельности. Пишу я это особенно для того, что я тебе бы, милая Соня, желал такой деятельности, такой деятельности, при которой ты бы знала, что это лучшее, что ты можешь делать, и, делая которое, ты была бы спокойна и перед Богом, и перед людьми.
У тебя была такая деятельность: воспитание детей, которое ты делала так самоотверженно и хорошо, и ты знаешь, это сознание исполненного долга, и потому знаешь, что к этой деятельности побуждала тебя никак не слава. Вот этакой деятельности я желаю тебе,– страстно желаю, молился бы, если бы верил, что молитва может сделать это.
Какая эта деятельность, я не знаю и не могу указать тебе, но деятельность эта есть, свойственная тебе и важная, и достойная, такая, на которую положить всю жизнь, как есть такая деятельность для всякого человека, и деятельность эта для тебя никак уж не в игрании на фортепиано и слушании концертов.
Как бы я хотел, милая Соня, чтобы ты приняла это письмо с той же любовью, бескорыстной, с полным забвением себя, а с одним желанием блага тебе, которую я испытываю теперь…».
Весьма вероятно, что Толстому стало известно, откуда почерпнула Софья Андреевна сведения о Бетховене, если он дважды в письме «налегает» на фортепьяно. Понятно, что не обошлось без С.Н.Танеева, который дал жене Толстого книгу с биографией композитора, чтобы она лучше поняла его «эгоизм и равнодушие».
Поняла ли лучше Софья Андреевна, «сложную и противоречивую» душу своего мужа, можно судить по ее дневниковой записи от 7 ноября 1897 года: «Дорогой в вагоне я все читала биографию Бетховена, удивительно меня заинтересовавшую. Это один из тех гениев, для которых центр мира – это их гений, творчество – и весь остальной мир это обстановка, принадлежность к гению (аксессуар). Через Бетховена я поняла лучше и эгоизм, и равнодушие ко всему Льва Николаевича. Для него тоже мир есть то, что окружает его гений, его творчество; он берет от всего окружающего его только то, что служит служебным элементом его таланта, для его работы. Все остальное он отбрасывает. От меня, например, он берет мой труд переписывания, мою заботу о его физической стороне жизни, мое тело…. А вся духовная сторона моей жизни ему совсем неинтересна и не нужна, – и потому он никогда не вникал в нее. Дочери ему тоже служили, и он ими тогда интересовался; а сыновья ему совершенно чужие. И все это нам больно, – а мир преклоняется перед такими людьми…».
27 ноября 1897 года Толстой, отправляя Л.Я.Гуревич исправленную корректуру перевода статьи Карпентера, ставит ее в известность, что предисловие к ней «переписывается и будет выслано ей дня через два» и добавляет: «Я бы желал еще раз прочитать и поправить его в корректуре».
Между тем, как отмечает Л.Д.Опульская в своих материалах (стр.270), утром 28 ноября 1897 года в Ясную Поляну приехал Д.П.Маковицкий…. Открытый и простодушный Душан Петрович, не подозревая опасности, в Москве рассказал про статью и предисловие Софье Андреевне. Та, «ушам своим не поверила», просила повторить (после истории с «Хозяином и работником» муж обещал «ничего не печатать в «Северном вестнике») и, отразив 30 ноября 1987 года свое возмущение в дневнике, подчеркнула эти слова.
Ко всему прочему настроение у Софьи Андреевны окончательно испортилось, от известия, которое привезла из Ясной Поляны дочь Татьяна, заехавшая туда по возращению из Крыма, что отец не хочет ехать в Москву – для него это «самоубийство».
28 ноября 1897 года Толстой отмечает, в дневнике: «…От Сони огорченное письмо. Я дурно сделал, что сказал, а Таня дурно сделала, что передала».
Толстой в своих дневниках часто разочаровывается в том, что что-то не так сделал, поступил или сказал и сокрушается, что его не так поняли и тогда, чтобы оправдаться, как правило, дает в дневнике или в письмах какой-нибудь комментарий. В результате проясняются кое-какие подробности семейной жизни писателя, которая кажется, исследована уже вдоль и поперек, но все еще далека от реальности, как бы нас не убеждали различные очевидцы-мемуаристы, от членов семьи и друзей до случайных свидетелей.
Настроение Толстого поднимает, правда ненадолго, Душан Маковицкий: «…Нынче утром (28-го) приехал Маковицкий, милый, кроткий, чистый. Много рассказал про друзей…». После оценки полученных писем и прогулки он отмечает: «…Нехорошо все эти дни на душе. В таком состоянии быть в Москве!»
1 декабря 1897 года, в Москве, дочь Толстого Татьяна отказала Сухотину, сделавшему ей предложение. После этого известия Толстому наверно не могло даже прийти в голову, что спустя два года Татьяна все равно свяжет с ним свою судьбу.
2 декабря 1897 года, несмотря на то, что проводит свободное время с Маковицким у него, если верить записи в дневнике:
«Тоскливое, грустное, подавленное состояние тела и душевных сил, но он знает, что жив и независимо от этого состояния, только мало чувствует, что он это он.
В оригинале написано: «я знаю, что жив…, только мало я чувствую это я». Ничего не поделаешь, но и у великого писателя в подавленном состоянии, его мысль, не всегда доходит, до каждого, без предварительной подготовки.
В конце ноября Толстой работал помимо трактата об искусстве над предисловием к статье Э.Карпентера «Современная наука», для «Северного вестника» (о котором уже упоминалось, в связи с ревностью Софьи Андреевны к редактору этого журнала Любови Гуревич). Предисловие было отправлено в «Северный вестник и реакция Софьи Андреевны, последовала мгновенно. В связи с этим Толстой, далее в дневнике, пишет: «…Нынче было письмо от Тани о том, что Соня огорчена отсылкой предисловия в «Северный вестник». Я ужасно боюсь этого…».
Но главное, что отмечает Толстой, «за это время был Душан, которого я еще больше полюбил. Он составляет с славянским «Посредником» центр маленькой, но думаю, что божеской работы».
Разговаривая с Душаном Маковицким, после его вопроса, как ему поступать, если он невольно стал представителем Толстого в Венгрии, Лев Николаевич обрадовался случаю, чтобы «сказать ему и уяснить себе, что говорить о толстовстве, искать его руководительства, спрашивать его решения вопросов – большая и грубая ошибка.
Никакого толстовства и моего учения не было, и нет, есть одно, одно вечное, всеобщее, всемирное учение истины, для меня, для нас особенно ясно выраженное в евангелиях».
Тогда «Ясная Поляна стала своего рода объектом паломничества, – отмечает Янко Лаврин (в книге «Лев Толстой, сам о себе», стр.162-163), – для толстовцев всех мастей, зачастую лишь мнящих себя таковыми. Однако наряду со всевозможными духовными проходимцами попадались и честные искатели истины, надеявшиеся обрести в учении Толстого решение своих внутренних проблем… не из праздного любопытства, но в стремлении услышать Толстого, мудреца и учителя…. Несколько искателей действительно нашли или, по крайней мере, решили, что нашли то, что искали. Одним из них был врач из Словакии Душан Маковицкий, который в 1904 году даже поселился в Ясной Поляне в качестве домашнего доктора и сыграл важную роль в последующем уходе Толстого из дома» в 1910 году.
Как бы там ни было, Толстой, оценивая в этот день свое душевное состояние («тоска, мягкая, умиленная тоска, но тоска»), приходит к выводу: «Если бы не было сознания жизни, то, вероятно, была бы озлобленная тоска». Положив ручку на стол, задумывается, все ли он отметил главное в дневнике, оказывается, нет, и снова берет ручку, чтобы дописать: «Кажется, кончил «Искусство».
Тем временем, как отмечает Л.Д.Опульская («Материалы», стр.271) «возбуждение Софьи Андреевны было беспредельно». В дневнике она записала «что хотела лишить себя жизни, уехать куда-нибудь – в Петербург, отнять статью у Гуревич, думала, что сойдет с ума, и уехала к Троице. Там в гостиничном номере лавры ее и нашла дочь Татьяна. Вернулась Софья Андреевна, лишь получив 6 ноября 1897 года от мужа из Москвы телеграмму: «Хотел ехать, но чувствую себя слабым. Приезжай, пожалуйста, нынче, причин страданий нет».
Так, благодаря тому, что Толстой имел неосторожность отправить «предисловие» к статье Карпентера о науке в журнал «Северный вестник», мы можем судить о взаимоотношениях и во втором «любовном треугольнике», который состоял из Любови Гуревич, Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстого, на его вершине.
Как бы там ни было, но 6 декабря 1897 в дневнике Толстой отмечает: «…Два дня почти ничего не писал, – только готовил главы «Искусства» и укладывался. От Сони самые тяжелые письма. 5-го приехал в Москву. Ее нет. Она в страшном возбуждении уехала к Тройце. Все наделала моя статья в «Северном вестнике». Я нечаянно ошибся…. Вечером приехала Соня, успокоенная. Поговорили, и стало хорошо. Ничего не записано. Проснулся дурно».
Что касается Софьи Андреевны, то она в своем дневнике подробно описала всю эту историю, включая даже то, «что на площади Троице-Сергеевой лавры цыганка сказала ей: «Любит тебя блондин, да не смеет; ты дама именитая, положение высокое, развитая, образованная, а он не твоей линии…» и за рубль шесть гривен обещала дать «приворот». От этого предложения, пишет Софья Андреевна, «мне стало жутко, и хотелось взять приворот…». Понятно, что после этого, она уже не может удержаться от трогательного описания встречи с мужем: «Дома Лев Николаевич встретил меня со слезами на глазах в передней. Мы так и бросились друг к другу. Он согласился… не печатать статьи в «Северном вестнике», а я ему обещала совершенно искренно не видеться нарочно с С.И.Танеевым, и служить Л.Н.Толстому, и беречь его, и сделать все для его счастья и спокойствия…».
А какого мнения обо всем этом был сам Толстой, можно судить по его дневниковой записи от 7 декабря 1897 года: «Вчера еще и еще говорили, и я слышал от Сони то, чего никогда не слыхал: сознание своей вины. Это большая радость. Благодарю тебя, отец (Бог). Что бы ни было дальше. Уж это было, и это большое добро…».
Разумеется, Софья Андреевна в этот же день ознакомилась с дневником Толстого, и, судя по записи в ее дневнике, она не разделяла оптимизма мужа: «…созналась в своей вине в первый раз и это радостно!! Боже мой! Помоги мне перенести это! Опять перед будущими поколениями надо сделать ему себя мучеником, а меня виноватой!»
13 декабря 1897 года, хотя ему и было «дома тяжело», и как бы доказывая записанное в дневнике, «но я хочу и буду радостен», Толстой перед этим отметил: «Хочу записать теперь сюжеты, которые стоит и можно обработать, как должно». Этот своего рада план на предстоящее время выглядел так: «1) Сергий. 2) Александр I. 3) Персиянинов. 4) Рассказ Петровича, мужа, умершего странником. 5) – следующее хуже – Легенда о сошествии Христа во ад и восстановлении ада. 6) «Фальшивый купон». 7) «Хаджи-Мурат». ![]() Подменный ребенок. 9) Драма христианского воскресения, пожалуй, и 10) «Воскресение». 11) Прекрасно. Разбойник – убивающий беззащитных. 12. Мать. 13) Казнь в Одессе.
Подменный ребенок. 9) Драма христианского воскресения, пожалуй, и 10) «Воскресение». 11) Прекрасно. Разбойник – убивающий беззащитных. 12. Мать. 13) Казнь в Одессе.
А вот что написал по этому поводу Толстой Душану Петровичу Маковицкому 17 декабря 1897 года: «Жена страдает какой-то странной ненавистью, ревностью к Гуревич.
Это началось со времени напечатания там (в «Северном вестнике») «Хозяина и работника»… Что было тогда, Толстой хорошо запомнил. «…Я думал, что это прошло, и не как не думал, чтобы «предисловие» произвело такое действие, и намеревался сам сказать ей об этом. Вышло же то, что это известие от вас, произвело на нее ужасное действие, так что пришлось пережить много тяжелого и взять назад статью из «Северного вестника и вовсе не печатать «предисловие»….
Только после того, как в этот конфликт, в 1898 году, вмешались старшие дети Толстого, Софья Андреевна, разрешила напечатать «предисловие» в «Северном вестнике» (№3 за 1898 год). Хотя мало вероятно, что она изменила мнение о самой Гуревич.
Если сам Лев Николаевич не верил в платоническую дружбу своей жены, которая «обожала музыку и сама отлично играла на пианино», к Танееву, то почему Софья Андреевна должна была верить в платонические чувства мужа, который отлично владел пером, к редакторше Гуревич, когда тот, безвозмездно начал передавать ей, для публикации, свои сочинения. Это вполне могло показаться, и не только Софье Андреевне, платой за интимные услуги, хотя Толстой и продекламировал на весь мир 19 сентября 1891 года, опубликовав, в газетах заявление о том, что все желающие могут безвозмездно издавать его сочинения, написанные им после 1881 года. Но право, кто напечатает его новое произведение первым, всё равно оставалось за Толстым, и за это право боролись так, что подозрения Софьи Андреевны, были не так уж безосновательны.
Младшая дочь Толстого Александра Львовна (1884-1979) в своих воспоминаниях («Жизнь с отцом»), пишет, как она болезненно переживала связь матери с Танеевым, о которой, будучи подростком, не сразу догадалась. Своё увлечение музыкой мать старалась привить дочери (по её словам, приблизительно в 1895 году), но это, как та, уверяет нас в своей книге (Александра Толстая, «Дочь», Москва, «ВАГРИУС», 2000, стр.15-220) не доставляло ей никакого удовольствия:
«По четвергам мы ездили с мамá в концерты. Играли квартеты, музыка сложная, трудная, я ее никак не могла понять и думала только о том, как бы поскорее она кончилась. Завтра в десять часов придет учительница, уроков я не знаю, надо встать рано. Но мама, нарядная и оживленная, не замечала моей скуки. А сказать ей, что я не хочу идти в концерт, я не смела. Она, наверное, рассердилась бы: «Вот ты всегда так; какие-нибудь полезные, благородные развлечения тебя не интересуют, тебе бы только с мальчишками по заборам лазить да в чижи играть».
Иногда под звуки музыки я засыпала. Где-то далеко глухо пиликала скрипка, басила виолончель. Когда я просыпалась, мне казалось, что прошло много, много времени, и было странно, что ничего не изменилось, так же старательно играли музыканты, ярко горели люстры, внимательно слушала публика. «Концерт никогда не кончится», – думала я. Особенно долго всегда тянулось анданте. Недалеко от нас сидел музыкант С.И.Танеев, мама делилась с ним впечатлениями, а после концерта предлагала идти вместе домой пешком. От Благородного собрания (в советское время «Дом Союзов») до нашего дома 50 минут ходьбы. 12-й час. Я хочу спать, ужасно хочу, глаза совсем слипаются… Молча плетусь за ними, мне ужасно досадно, злые слезы душат меня.
Танеев часто бывал у нас в это время. Как сейчас вижу его доброе, красное лицо с маленькими глазками, всегда блестящее, точно смазанное салом, и обрамленное небольшой бородкой; жирное, плохо укладывающееся, точно выпирающее из одежды тело, тонкий, захлебывающийся смех, напоминающий квохчущую наседку. Он был одним из самых больших композиторов и музыкантов того времени.
Жил Сергей Иванович в Мертвом переулке в маленьком флигельке во дворе со своей старой няней Пелагеей Васильевной. Она ходила уткой, раскачиваясь из стороны в сторону, так как ноги у нее были сведены ревматизмом, обожала своего питомца, заботилась о нем и, когда его беспокоили, вздыхала и говорила: «Ах, знаете, Сергей Иванович так устал, он все утро сонату пассионату Бетховена играл».
Танеев прекрасно относился к отцу и ко всей нашей семье, был приятным собеседником, музыка его доставляла всем громадное удовольствие. Когда Сергей Иванович садился за фортепиано, он совершенно преображался: лицо его делалось торжественным, важным. Играл он превосходно, музыкальная память у него была изумительная. Стоило ему раз прочитать страницу нот, как он мог уже ее сыграть наизусть.
В это время, приблизительно в 1895 году, семья наша постепенно таяла. Братья зажили самостоятельной жизнью. Сергей женился на дочери профессора Петровской академии Мане Рачинской, а через год женился Лева на дочери шведского врача Вестерлунда, и Таня (сестра Татьяна, 1864-1950) и Миша (брат Михаил, 1979-1944) ездили в Швецию справлять его свадьбу.
Летом (1896 года) тетенька Татьяна Андреевна (Берс, младшая сестра матери) с семьей уже не жила в Ясной Поляне. В так называемом кузминском доме (фамилия сестры матери в замужестве была Кузминская, 1846-1925), поселился Сергей Иванович Танеев со своей старой нянюшкой Пелагеей Васильевной. Он сочинял оперу «Орестея», гулял с нами, играл с отцом в шахматы, и иногда мы целыми вечерами слушали в его чудеснейшем исполнении Шопена, Бетховена, Моцарта, Мендельсона.
Сергей Иванович сочинял романсы по просьбе Тани (старшей сестры), и я очень скоро запомнила их и распевала…
Мамá совсем ожила, она реже вспоминала Ванечку, помолодела и все декламировала стихи (Ф,И.Тютчева «Последняя любовь): «О, как на склоне наших лет // Нежней мы любим и суеверней…». Только одна Маша (сестра Мария, 1871-1906) не принимала участия в общем веселье. Она так же бегала по больным в деревню, ходила в поле на работу, а в свободное время переписывала отцу… (стр.36-37,38,39).
Первое время я любила Танеева, любила его игру на фортепиано, особенно когда он играл не своё, а Бетховена, Моцарта, сюиту Аренского на двух фортепиано с (пианистом) Гольденвейзером (Александром Борисовичем, 1875-1961). Я любила играть с Сергеем Ивановичем в теннис-лаун, причём мы одинаково увлекались игрой, и смеялись во все горло. Я любила его кроткую, уютную нянюшку Пелагею Васильевну.
Постепенно все изменилось. Чем больше я замечала особенное, преувеличенно-любовное отношение мама к Танееву, тем больше я его не любила. Когда Сергей Иванович приходил, я демонстративно уходила в свою комнату. Его грузная фигура, бабий смех, покрасневший кончик небольшого аккуратного носа – все раздражало меня.
Бывало, толстый Емельяныч, подрагивая натянутыми вожжами, подавал к подъезду сани с обшитой мехом полостью, запряженные темно-серой красавицей Лирой, и мама в бархатной шубе и котиковой шапочке отправлялась за покупками.
– Разве кто-нибудь у нас сегодня будет? – спрашивала я, отлично зная, что придёт Танеев.
– Да не знаю, – говорила мама, – может быть, Сергей Иванович зайдет.
А вечером, конфузливо смеясь и потирая руки, появлялся Танеев. Он сидел весь вечер, иногда играя и с удовольствием поглощая зернистую икру и конфеты от Альберта.
Бывало, возвращались мы из пассажа или от Мюра и Мерилиза (в советское время магазин ЦУМ); мамá, перегнувшись вперед, постукивала Емельяныча черепаховым лорнетом по широкой ватной спине:
– Заезжай в Мёртвый! – и, обращаясь ко мне, говорила:
– Надо нянюшку Сергея Ивановича проведать.
Я молчала, стиснув зубы. Нянюшка Пелагея Васильевна с ее веснушчатым добродушным лицом и раскачивающейся походкой делалась мне ненавистной.
Иногда мы неожиданно заставали дома Сергея Ивановича. Он обычно играл что-нибудь или сидел в своей крошечной столовой и пил чай. Танеев торопливо, неуклюже вскакивал, он не умел быть гостеприимным. Выручала нянюшка. Она приглашала садиться и угощала чаем. Я пряталась в темный угол, внутренне сжималась, из меня нельзя было вытянуть ни одного слова.
Теперь я всячески старалась отговориться от квартетных четвергов: то у меня было много уроков, то болела голова. Да и мамá, видя моё настроение, брала меня с собой гораздо реже.
Весной ездили за город с Танеевым. (Мать заранее предупредила):
– Саша, в воскресенье поедем на Воробьевы горы!
– С кем? – насторожившись, спрашивала я.
– Поедут Масловы, Сергей Иванович…
– Не поеду, – говорила я грубо.
– Почему? Непременно поедешь, нечего тебе с уличными мальчишками
играть!
Наступало воскресенье. Мама была ласкова, весела, нарядна. Но чем оживленнее была мама, тем я делалась мрачнее. Я надувалась и всю дорогу молчала. Ничто не могло развеселить меня. (В голове у нее прокручивались слова): «О, как на склоне наших лет // Нежней мы любим и суеверней…».
Это стихотворение почему-то связалось у меня с Танеевым, я его возненавидела, и ужасно обрадовалась, когда узнала, что папа его тоже не любит.
– Отвратительное стихотворение, – говорил он, – воспевает старческую слюнявую любовь!
В этот мучительный период моей жизни я узнала, что такое бессонница. Придешь к себе в комнату измученная злыми, туманными переживаниями, хочется скорее забыться, заснуть…. Глаза слипаются, я задремываю…. Не засну, – думаю я (под храп няни), – ни за что не засну! Вкусные сегодня были вафли с фисташковой начинкой. Почему она мне не дает (жалеет себя, нет, чтобы оглядеть в зеркале свою фигуру), а Танееву даёт, он сегодня все съел! А противная эта «Песня без слов» Мендельсона – не люблю». (Няня храпит, а мысли все о том же): «Господи, не засну! Что мама, старая или не старая? Ей не хочется быть старой Я вспоминаю её оживленное лицо, и вдруг поднимается тоска. «Не думать, не думать, заснуть!» (Просит няню не храпеть, та ей не верит, но храп прекращается, и снова возникают вопросы без ответа): «Почему, когда он приходит, она надевает самое лучшее платье? Господи, заснуть бы скорее, пока няня еще не храпит!… Папа и Маша тоже не любят Танеева…».
Опять раздается нянин храп. Она затыкает уши ватой. Но от тишины становится страшно, и она невольно прислушивается, отчего начинает болеть голова. Она вытаскивает из ушей вату и присаживается на подушку и теперь кроме храпа, слышит голоса родителей:
«За стеной разговор, о чем-то спорят родители. Слышится нервный голос мамá, отец тихо уговаривает. Папá громко, в три колена зевает: ох, ох, ох! Голоса смолкают, в столовой два раза кукует кукушка.
«Господи, Господи, какая несчастная, никто меня не любит, мамá мучает. Всем все равно». Мне делается жалко себя, я плачу, плачу и в слезах засыпаю.
Один раз я рассказала сестре Маше, как я ненавижу Танеева, как я мучаюсь. Сначала говорить было страшно, но, взглянув на нее, я вдруг поняла, что Маша знает и мучается так же, как я. Тогда слова полились сами собой, я не могла остановиться, надо было все выложить, что наболело…
Маша даже испугалась. Она старалась успокоить меня, говорила, что нет ничего дурного в там, что мамá любит Танеева.
– Посмотри на отца, как он кроток, терпелив, несмотря на то, что так страдает….
Я знала, что «дурного» не было в чувстве мамá к Танееву, но как же сделать так, чтобы это не мучило? Но этого Маша мне рассказать не умела.
Сестра Маша разочаровала не только этим, но ее еще тем, что проявила непростительную слабость духа, когда сама полюбила, и так, что Александра Толстая, по этому поводу, горько воскликнула: «Эх, Маша!»
Скоро она сама поступила так, что понять её было невозможно. Жил у нас родственник, внук тетушки Марии Николаевны (сестры отца) – Колаша Оболенский (Николай Леонидович, 1872-1934). Он кончал в то время университет, и мамá предложила ему поселиться у нас. Колаша жил да жил, никто не обращал на него особого внимания. Вставал он поздно, в университет ходил редко, читал романы, курил папиросы. Но вдруг я узнала, что Маша выходит за него замуж. Сперва, я не поверила. Ну что могла быть общего между Машей и этим красивым молодым человеком с врожденной барской ленью во всем существе, с медленной подпрыгивающей походкой, плавной, грассирующей речью?
Колаша был так далёк от ореола, окружающего в моём воображении сестру. Я не могла допустить мысли, что ради него Маша оставит отца. Но она полюбила Колю и решила выйти за него замуж. Помню, трудно ей было с церковными формальностями. То священник не хотел венчать родственников, то требовал свидетельства об исповеди и причастии, которого у Маши не было. Тяжел ей был и сам обряд венчания. Она постаралась сделать всё как можно проще. Жених и невеста в домашних платьях пошли в церковь, где было только несколько человек родственников.
Но все это было ничто в сравнении с тем компромиссом, на который Маша решилась в связи со своим замужеством. Она хворала, денег не было, служить Коля не хотел, и Маша попросила отдать ей часть имущества, от которого она прежде отказалась.
Не знаю, что труднее было вынести: полное любви и снисходительности молчание отца или упреки матери?
Отец был окружен близкими, но одинок. Одни угнетали его своим бескорыстием и преданностью, другие требовали дорогой платы за принесенные жертвы, третьи подавляли его своим восхищением, четвертые огорчали полным пренебрежением к его мыслям.
И только одна Маша любила его беззаветно, ничего от него не требуя, и сама давала ему то, что было нужнее всего: заботу, нежность и чуткое понимание. Маша уехала, но отец не переставал думать о ней, писал ей письма. Часто Маша и Коля жили у нас, или отец ездил к ним в Пирогово. Помню, бывало, отец увидит Машу, просияет весь и непременно спросит:
– Ну что? Как? Неужели вы с Колей все разговариваете?
– Да, папа, – отвечает Маша, смеясь.
– Ну, о чем же можно целые дни разговаривать? Он удивлялся и
радовался, что Маша счастлива (стр.48-51).
Казалось бы, что Толстые к концу 1897 года выясняли между собой личные отношения, и теперь можно было поставить точку в семейной драме, но все оказалось далеко не так. Просто некоторые обстоятельства заставили Софью Андреевну больше думать о муже, в адрес которого посыпались угрозы его убийства, оттеснив её увлечение композитором на второй план. Понятно, что чувство опасности, не идёт ни в какое сравнение, с возбуждающим воздействием музыки, которую сразу же заглушает охватывающий душу страх, связанный с ожиданием или предчувствием смерти близкого тебе человека.
Но фитиль взаимного недоверия, подозрительности и ревности продолжал тлеть и всё время грозил, если не окончательно разорвать семейные отношения Льва Николаевича с Софьй Анреевной в эти годы, но мог быть причиной новых душевных потрясений обоих супругов, пока между Софьей Андреевной и Танеевым, сохранялись, какие либо, пусть даже редкие, но «дружеские» отношения.
Очередным поводом для конфликта послужила поездка 12 июля 1898 года С.А.Толстой из Ясной Поляны к дочери М.Л.Оболенской в Пирогово, затем в имение Селище Карачевского уезда Орловской губернии к своим знакомым Масловым, где в то лето жил С.И.Танеев. И только после встречи с ним она отправилась в гости к своей сестре Т.А.Кузминской в Киев.
Странный маршрут жены в гости к сестре, вызывает в душе у Толстого новый приступ ревности, который хорошо отражается в его дневниковой записи от 17 июля 1898 года:
…Соня уехала в Киев. Внутренняя борьба. Мало верю в бога. Не радуюсь экзамену, а тягощусь им, признавая вперёд, что не выдержу. Всю ночь нынче не спал…
После возвращения жены в Ясную Поляну у Толстого с женой состоялся в ночь с 28 на 29 июля 1898 года, разговор об отношениях С.А.Толстой с С.И.Танеевым. Запись этого разговора, выполненную в виде диалога супругов, Толстой хотел послать в форме письме сестре жены Т.А.Кузминской, гостившей с 22 по 28 июля 1898 года в Ясной Поляне, но потом передумал. Долгое время эта запись была никому неизвестна, пока её случайно в 1905 году не нашла, перебирая бумаги отца его дочь М.Л.Оболенская:
«Нынче ночью был разговор и сцена, которая подействовала на меня еще гораздо более, чем последняя её поездка.
Для характеристики разговора надо сказать, что я в этот день только что приехал в 12-м часу ночи из поездки за восемнадцать верст для осмотра именья Маши. Я не говорю, что в этом был труд для меня, это было удовольствие, но всё-таки я несколько устал, сделав около сорока вёрст верхом, и не спал в этот день. А мне 70 лет.
Под влиянием твоих разговоров, усталости и хорошего, доброго расположения духа я лег спать с намерением не говорить ничего о том, что было, и в надежде, что все это, как ты утешала меня, само собой сойдет на нет. Легли. Помолчали. Она (О) начала говорить:
О. Ты поедешь в Пирогово, будешь меня бранить Серёже?
Я. Я ни с кем не говорил, ни с Таней, дочерью.
О. Но с Таней, сестрой, говорил?
Я. Да.
О. Что же она говорила?
Я. То же, что тебе… мне тебя защищала, тебе, вероятно, за меня говорила.
О. Да, она ужасно строга была ко мне. Слишком строга. Я не заслуживаю.
Я. Пожалуйста, не будем говорить, уляжется, успокоится и, бог даст, уничтожится.
О. Не могу я не говорить. Мне слишком тяжело жить под вечным страхом. Теперь, если он (С.И.Танеев) заедет, начнется опять. Он не говорил ничего, но, может быть, заедет.
Известие, что он приедет – как всегда бывало – может быть, а в действительности наверное – было мне очень тяжело. Только что хотел не думать об этом, как опять это тяжелое посещение. Я молчал, но не мог уж заснуть и не выдержал, сказал:
Я. Только что надеялся успокоиться, как опять ты будто приготавливаешь меня к неприятному ожиданию.
О. Что же мне делать? Это может быть, он сказал Тане. Я не звала. Может быть, он заедет.
Я. Заедет он или не заедет, неважно, даже твоя поездка не важна, важно, как я говорил тебе, два года назад говорил тебе, твоё отношение к твоему чувству. Если бы ты признавала своё чувство нехорошим, ты бы не стала даже и вспоминать о том, заедет ли он, и говорить о нём.
О. Ну, как же быть мне теперь?
Я. Покаяться в душе в своём чувстве.
О. Не умею каяться и не понимаю, что это значит.
Я. Это значит обсудить самой с собой, хорошо ли то чувство, которое ты испытываешь к этому человеку, или дурное.
О. Я никакого чувства не испытываю, ни хорошего, ни дурного.
Я. Это неправда.
О. Чувство это так неважно, ничтожно.
Я. Все чувства, а потому и самое ничтожное, всегда или хорошие, или дурные в наших глазах, и потому и тебе надо решить, хорошее ли это было чувство, или дурное.
О. Нечего решать, это чувство такое неважное, что оно не может быть дурным. Да и нет в нем ничего дурного.
Я. Нет, исключительное чувство старой замужней женщины к постороннему мужчине – дурное чувство.
О. У меня нет чувства к мужчине, есть чувство к человеку.
Я. Да ведь человек этот мужчина.
О. Он для меня не мужчина. Нет никакого чувства исключительного, а есть то, что после моего горя мне было утешение музыка, а к человеку нет никакого особенного чувства.
Я. Зачем говорить неправду?
О. Но хорошо. Это было. Я сделала дурно, что заехала, что огорчила тебя.
(Переживания Толстого были вызваны намерением С.А.Толстой заехать на обратном пути из Киева к знакомым Масловым в имение Селище Орловской губернии, где в то время гостил С.И.Танеев.)
Но теперь это кончено, я сделаю все, чтобы не огорчать тебя.
Я. Ты не можешь этого сделать потому, что все дело не в том, что ты сделаешь – заедешь, примешь, не примешь, дело все в твоём отношении к твоему чувству. Ты должна решить сама с собой, хорошее ли это, или дурное чувство.
О. Да нет никакого.
Я. Это неправда. И вот это-то и дурно для тебя, что ты хочешь скрыть это чувство, чтобы удержать его. А до тех пор, пока ты не решишь, хорошее это чувство или дурное, и не признаешь, что оно дурное, ты будешь не в состоянии не делать мне больно. Если ты признаешь, как ты признаешь теперь, что чувство это хорошее, то никогда не будешь в силах не желать удовлетворения этого чувства, то есть видеться, а желая, ты невольно будешь делать то, чтобы видеться. Если ты будешь избегать случаев видеться, то тебе будет тоска, тяжело. Стало быть, все дело в том, чтобы решить, какое это чувство, дурное или хорошее.
О. Дурно я сделала, что сделала тебе больно, и в этом раскаиваюсь.
Я. Вот это-то и дурно, что ты раскаиваешься в поступках, а не в том чувстве, которое ими руководит.
О. Я знаю, что я никого больше тебя не любила и не люблю. Я бы желала знать, как ты понимаешь мое чувство к тебе. Как же бы я могла любить тебя, если бы любила другого?
Я. Твой разлад от этого-то и происходит, что ты не уяснила себе значения своих чувств. Пьяница или игрок очень любит жену, а не может удержаться от игры и вина и никогда не удержится, пока не решит в своей душе, хорошее ли чувство его любовь к игре и к вину. Только когда это решено, возможно избавление.
О. Всё одно и то же.
Я. Да не могу я ничего сказать другого, когда ясно, как день, что все дело только в этом.
О. Ничего дурного я не делала.
Так с разными вариациями разговор приходил все к тому же. Она старалась показать, что чувство это очень неважное, и потому не может быть осуждаемо, и нет причин бороться с ним. Я всё время возвращался к тому, что если в душе чувство признается хорошим, то от него нет избавления и нет избавления от тех сотен тысяч мелочных поступков, которые вытекают из этого чувства и поддерживают его.
О. Ну что же будет, если я признаю чувство дурным?
Я. То, что ты будешь бороться с ним, будешь избегать всего того, что поддерживает его. Будешь уничтожать всё то, что было связано с ним.
О. Да это всё к тому, чтобы лишить меня единственного моего утешения – музыки. Я в ужасном сегсlе vicieux (заколдованном кругу). У меня тоска. Тоску эту я разгоняю только игрой на фортепьяно. Если я играю, ты говоришь, что это всё в связи с моим чувством, если я не играю, я тоскую, и ты говоришь, что причиной моё чувство.
Я. Я одно говорю: надо решить, хорошее это или дурное чувство. Без этого наши мучения не кончатся.
О. Нет никакого чувства, нечего решать.
Я. Пока ты так будешь говорить, нет выхода. Но, впрочем, если у человека нет того нравственного суда, который указывает ему, что хорошо, что дурно, человек, как слепой, разобрать цвета не может. У тебя нет этого нравственного судьи, и потому не будем говорить – два часа.
Долгое молчание.
О. Ну вот, я спрашиваю себя совершенно искренно: какое моё чувство и чего бы я желала? Я желала бы больше ничего, как-то, чтобы он раз в месяц приходил посидеть, поиграть, как всякий добрый знакомый.
Я. Ну ведь вот ты сама этими словами подтверждаешь, что у тебя исключительное чувство к этому человеку. Ведь нет никакого другого человека, ежемесячное посещение которого составляло бы для тебя радость. Если посещение раз в месяц приятно, то приятнее ещё раз в неделю и каждый день. Ты невольно этим самым говоришь про своё исключительное чувство. И без того, чтобы ты не решила вопрос о том, хорошо ли это, или дурно, ничего измениться не может.
О. Ах, все одно и одно. Мученье. Другие изменяют мужьям, столько их не мучают, как меня. За что? За то, что я полюбила музыку. Можно упрекать за поступки, а не за чувства. Мы в них не властны. А поступков никаких нет.
Я. Как нет? А поездка в Петербург, и туда и сюда, и вся эта музыка?
О. Да что ж особенного в моей жизни?
Я. Как что ж особенного? Ты живешь какой-то исключительной жизнью. Ты сделалась какой-то консерваторской дамой.
Слова эти почему-то ужасно раздражают её.
О. Ты хочешь измучить меня и лишить всего. Это такая жестокость.
Она приходит в полуистерическое состояние. Я молчу довольно долго, потом вспоминаю о боге. Молюсь и думаю себе: «Она не может отречься от своего чувства, не может разумом влиять на чувства. У неё, как у всех женщин, первенствует чувство, и всякое изменение происходит, может быть, независимо от разума, в чувстве… Может быть, Таня права, что это само собой понемногу пройдет своим особенным, непонятным мне женским путём. Надо сказать ей это, думаю я, и с жалостью к ней и желанием успокоить её, говорю ей это, – то, что я, может быть, ошибаюсь, так по-своему ставя вопрос, что она, может быть, придёт к тому же своим путём, и что я надеюсь на это. Но в это время в ней раздражение дошло до высшей степени.
О. Ты измучил меня, долбишь два часа одной и той же фразой: исключительное, исключительное чувство, хорошее или дурное, хорошее или дурное. Это ужасно. Ты своей жестокостью доведёшь бог знает до чего.
Я. Да я молился и желал помочь тебе…
О. Все это ложь, всё фарисейство, обман. Других обманывай, я вижу тебя насквозь.
Я. Что с тобой? Я именно хотел доброе.
О. Нет в тебе доброго. Ты злой, ты зверь. И буду любить добрых и хороших, а не тебя. Ты зверь (выделено курсивом самим Толстым).
Тут уж начались бессмысленные, чтобы не сказать ужасные, жестокие речи: и угрозы, и убийство себя, и проклятия всем, и мне и дочерям. И какие-то угрозы напечатать свои повести, если я напечатаю «Воскресение» с описанием горничной. И потом рыдания, смех, шептание, бессмысленные и, увы, притворные слова: голова треснет, вот здесь, где ряд, отрежь мне жилу на шее, и вот он, и всякий вздор, который может быть страшен. Я держал её руками. Я знал, что это всегда помогает, поцеловал её в лоб. Она долго не могла вздохнуть, потом начала зевать, вздыхать и заснула и спит ещё теперь.
Не знаю, как может разрешиться это безумие, не вижу выхода. Она, очевидно, как жизнью дорожит этим своим чувством и не хочет признать его дурным. А не признав его дурным, она не избавится от него и не перестанет делать поступки, которые вызываемы этим чувством, поступки, видеть которые мучительно, и стыдно видеть их мне и детям («Диалог», ПСС Льва Толстого, том 53, М., 1953, стр. 383-388).
Благодаря дневникам Софьи Андреевны Толстой мы можем взглянуть её глазами на события той бурной ночи, причём с описанием предшествующих ей событий:
«22, 23, 24, 25 июля 1898 года: Утром рано приехали с (сестрой) Таней в Тулу 22-го: Дождь шёл, свежо, лошади не высланы. Взяли извозчика, приехали – и тут начались неприятности: целый ряд неприятностей от Л.Н., что я заезжала к Масловым и видела там Сергея Ивановича (Танеева). А между тем, уезжая, я спросила Л.Н.: если ему неприятно, то я не заеду. Я, прощаясь, нагнулась к нему, сонному, поцеловала его и просто откровенно сделала ему этот вопрос. А он не просто, зло и не откровенно в первый ещё раз сказал: «Отчего же, разумеется, заезжай», а второй раз сказал: «Твоё дело».
У преддверья пещер в Киеве, на стене написана огромная картина, изображающая сорок мытарств, через которые прошла душа умершей святой Феодоры. Изображены вперемежку: группа двух ангелов с душой Феодоры в виде девочки в белом одеянии, с группой дьяволов во всех возможных безобразных позах. И дьяволы эти – все сорок групп – изображают сорок грехов, подписанных по-славянски под этими группами чертей.
Так вот Л.Н. все эти сорок грехов, наверно, приписал мне в эти три-четыре дня, которые он меня бранил.
Наверху этой картины изображена ещё одна душа, т.е. одна девочка в белом одеянии, упавшая ниц на ступенях возвышения, на котором изображён Христос, сидящий с апостолами. Далее врата рая – и наконец, самый рай в виде сада. Целая поэма, очень интересная, воображаю, для народа особенно.
Потом стало у нас тише. Я старалась, чтоб не отравить сестре её пребывание в Ясной. Мы с ней много разговаривали, и она меня осуждала за моё пристрастие и к Сергею Ивановичу (Танееву), и к музыке, и за то, что огорчаю мужа.
Трудно мне покорить свою душу требованиям мужа, но надо стараться.
28 июля 1898 года. Свезла в Ясенки сестру Таню. Она уехала в Киев, кажется довольная своим пребыванием в Ясной. Мы, если можно, стали ещё дружней. Я осиротела, а прильнуть не к кому.
Ходила одна по лесу, купалась и плакала. К ночи опять начались разговоры о ревности и опять крик, брань, упрёки. Нервы не вынесли, какой-то, державший в мозгу равновесие, клапан соскочил, и я потеряла самообладание. Со мной сделался страшный нервный припадок, я вся тряслась, рыдала, заговаривалась, пугалась. Не помню хорошенько, что со мной было, но кончилось какой-то окоченелостью.\\
29, 30 июля 1898 года. Пролежала полтора суток в постели, без еды, без света в тёмной комнате, без мысли, без чувства, без любви и ненависти, и испытала могильную тишину, безжизненность и мрачность. Ко мне заходили все, но я никого не любила, ни о чём не жалела, ничего не желала, кроме смерти.
Сейчас толкнула стол, и на пол упал портрет Льва Николаевича. Так я этим дневником свергаю его с пьедестала, который он всю жизнь старательно себе воздвигал (С.А.Толстая, «Дневники» в двух томах, том 1, М., 1978, стр.399-400).
Кто бы мог подумать, что написанная Львом Толстым в назидание другим, повесть «Крейцерова соната», окажется для него самого нерешённым вопросом на всю его оставшуюся жизнь и вечным укором тому Царству Божьёму, которое он нашёл внутри себя.
Фото-комментарий:
1895 год. Снимок в год смерти младшего сына Л.Н. и С.А.Толстых Ванечки. «Ему было семь лет и смерть его была самым большим горем в моей жизни. Всей душой я прильнула к Льву Николаевичу, в нём искала утешения, смысла жизни» (С.А.Толстая «Дневники», 10 августа 1903 года, М., 1978, том 2, стр. 96).
1895 год – М.Л.Толстая, С.А.Толстая, Т.Л.Толстая, С.И.Танеев и К.Н.Игумнов. Из воспоминаний Сергея Львовича Толстого («Очерки былого»): «Не знаю точно, как и когда возникло знакомство нашей семьи с Сергеем Ивановичем Танеевым. У нас с ним было много общих знакомых… В первой половине 90-х годов Танеев стал бывать в нашем московском доме в Хамовническом переулке (ныне улица Льва Толстого), а весной 1895 года моя мать пригласила его пожить лето в Ясной Поляне». Кроме исполнительного мастерства Танеева-пианиста, Толстой ценил его, как эрудированного собеседника и партнёра по шахматам. Ученик С.И.Танеева – Константин Николаевич Игумнов, в то время начинающий пианист, тоже не раз играл Толстому в доме писателя.
Лето 1895 года – на площадке около дома писателя в Ясной Поляне. Композитор С.И.Танеев сидит за столом между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной Толстыми.
Летом 1895 года С.И.Танеев был одним из постоянных партнёров Толстого по шахматам. Между ними существовал уговор: если партию в шахматы выигрывал Сергей Иванович, то по его желанию Толстой читал отрывки из своих художественных произведений, а если выигрывал Лев Николаевич, то Танеев исполнял любимые музыкальные пьесы писателя.
Толстой играл в шахматы эмоционально: радовался удачной партии (верхнее фото) и огорчался, проигрывая (нижнее фото).
Летом 1895 года, когда в Ясной Поляне жил Танеев, к нему приезжал его ученик Ю.Н.Померанцев (Юша), с которым Танеев занимался музыкой. Ю.Померанцев поддерживал с Толстыми дружеские отношения, приезжал в Ясную Поляну и в следующие годы, бывал частом гостем в хамовническом доме. Посвятил С.А.Толстой несколько романсов.
1896 год – летом 1896 года, с 19 мая по 2 августа, С.И.Танеев жил в Ясной Поляне в доме Кузминских. Почти каждый вечер он играл в зале яснополянского дома произведения Шопена, Моцарта, Бетховена, Шуберта. По воспоминаниям С.Л.Толстого («Очерки былого»), «он играл больше всего то, что нравилось Льву Николаевичу, или же те пьесы, которые он хотел ему показать, в том числе свои сочинения или сочинения Вагнера и Чайковского… Он всегда серьёзно относился к своей игре и никогда не играл небрежно: он весь погружался в исполняемую им музыку»
22-28 июля 1898 года. Лев Николаевич, Софья Андреевна и Татьяна Андреевна Кузминская. Татьяна Кузминская провела в Ясной Поляне несколько дней (22-28 июля). На память о её пребывании в Ясной Поляне Софья Андреевна сделала несколько фотоснимков.
Фотографии взяты из фотолетописи «Толстой в жизни» (том1, том2, , Тула, 1988) комментарии к фотографиям исправлены от опечаток и неточностей и отредактированы автором этой документальной статьи).
Дополнено: 04.04.2019